
От автора.
Подводники нашего Военно-морского флота не обижены отсутствием внимания со стороны общественности страны. В Советском Союзе и в нынешней России вышло множество публикаций о подводном флоте. В них по-разному оцениваются боевые и технические характеристики подводных лодок, профессиональная подготовленность экипажей, их морально-политические качества, уровень руководства подводными силами. Иногда эти оценки противоположны. В таком случае, где правда?
Мне довелось служить непосредственно на подводных лодках с 1956 по 1981 годы (получается – четверть века) на всех советских флотах. 10 лет командовал подводной лодкой 611 проекта. Поэтому мне представляется допустимым выйти к публике со своими суждениями о подводном плавании тех лет, рассказать о себе и о встречах с известными и малоизвестными подводниками на флотских путях. Быть может мое повествование в каких-то частях углубит знания тех, кто интересуется Военно-морским флотом Советского Союза. В записках читатель найдет достаточно много критических замечаний о флоте и его людях, продиктованы они желанием предостеречь нынешних молодых людей от ошибок, совершенных нами – старшими.
Хронологическая и сюжетная линия рассказа несколько раздроблена, связано это с тем, что все три главы записок были написаны в разное время и по разному поводу. первой написана вторая глава в конце 80-х годов для журнал «Морской сборник». Отрывки из нее в журнале печатались. Первая глава написана позже и предназначалась, так сказать, для семейных преданий. Однако этими «преданиями» заинтересовался редактор газеты Лихославльского района Тверской области «Наша жизнь» и напечатал их. Последний раздел написан в 2009 году по просьбе моих знакомых – старых подводников. В этой главе я сделал попытку осмыслить процессы, происходящие в ВМФ в предпоследние годы существования СССР, когда, казалось, могущество флота достигло наивысшей степени, но уже появились признаки «порчи» в секторе, как говорится, человеческого фактора, прежде всего, как ни грустно, в слое политического руководства. Поэтому я и привел в конце своих записок слова Н.А.Некрасова
«Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит Отчизны своей».
ПУТЬ ПОД ВОДУ.
1. К У Р С А Н Т.
Что дернуло меня выбрать жизненную дорогу профессионального военного моряка? – Ума не приложу. Моря я никогда не видел, а моряков представлял себе лихими, неунывающими, морозостойкими здоровяками, которым нипочем атмосферные и житейские бури и стужи – такими, как наш учитель немецкого языка Василий Иванович Старовойтов, в прошлом флотский офицер. На урок Василий Иванович врывался словно шквал. От дверей через весь класс бросал на учительский стол свой портфель и зычным голосом вопрошал:
-Wer ist hoite ordner ?
Замешкавшийся дежурный по классу выбегал навстречу учителю лепеча:
-Ich bin hoite ordner …
Не выслушав доклад до конца, Василий Иванович грозился, насупив белесые брови:
-Почему доска грязная?! Два наряда вне очереди — гальюн драить! — и раскатисто хохотал, видя растерянность на лице ученика.
Не Василий Иванович ли подспудно повлиял на мой выбор? Правда, должен признаться: по характеру и физическим качествам я мало походил на своего учителя, кроме того, поначалу мои планы вовсе не связывались с морем. Втайне я надеялся со временем стать председателем колхоза в родном Стану, в крайнем случае геологом сибирским.
Однако по мере того, как учеба в школе шла к концу, я трезвел: чтобы быть председателем колхоза или геологом, требовалось продолжать учебу в городе, а для этого, как известно, кроме всего прочего, не худо быть сытым и более или менее прилично одетым, обутым. Я же при любой погоде калош с ботинок не снимал – боялся подметки отвалятся.
В силу изложенного обстоятельства, решил податься в училище военных летчиков. Что летчику? Знай, летай. Харч, одежда – не твоя забота.
В очередной раз, как мог, починил ботинки. Надобность в калошах на время отпала, и я их спрятал, подумав: обойдусь без калош, скоро казенные хромовые сапоги получу. Повесил в шкаф костюмную пару, незадолго до школьных выпускных экзаменов купленную мамой в Калинине на многолетние семейные сбережения. Первым в моей жизни добротным костюмом, как и калошами, дорожил: мало ли что может случиться, вдруг забракуют, истреплю костюмчик в дорогах и городах, вернусь домой – в чем на гулянки буду ходить? В результате этих дальновидных размышлений натянул старые хлопчатобумажные брюки (брюки сами по себе гляделись не очень … , а в комплекте с башмаками – просто плохо). Чтобы скомпенсировать возможное негативное впечатление окружающих от одеяний, расположенных ниже пояса, выше пояса облачился в лучшую свою рубаху – сатиновую, алую, как заря.
До военкомата путь не близкий, из деревни уходил ночью. Мать была на дальних покосах. Бабушка Мария Ивановна, вручила краюху хлеба, 5 рублей (по нынешнему курсу 50 копеек), перекрестила на путь-дорогу и наставила:
— Приедешь ли к начальству или будущим учителям своим – не робей. Как войдешь в помещение, скажи про себя: «Хум хукка пертих – ламбахат лавчийн алла» и все будет хорошо. (Я, как и многие жители Верхневолжья, карел, и напутствие естественно получил на родном карельском языке. Заклинание можно перевести на русский примерно так: «Волк в избу,- овцы под лавку».)
Ободренный бабушкой, отправился в соседнюю деревню к своему другу и однокашнику Толе Белинскому, чтобы вместе идти в Лихославль – предстать перед приемной комиссией райвоенкомата.
Комиссию прошел успешно. Ничем иным, исключительно бабушкиным заклинанием объясняю свой успех. Посудите сами: при росте метр семьдесят пять живого веса во мне было три пуда, насилу двадцать приседаний исполнил перед медиками (нужно сказать: среди них молодые женщины были); после «чертового колеса» (так по-моему называется устройство для проверки вестибулярного аппарата) едва оземь не грохнулся от головокружения. Многих крепких ребят забраковали, а передо мной распахнули дверь прямо в небо. Но этой дверью я не воспользовался, а сунулся в другую.
Случилось это так. Покончив с формальностями, мы с Толей устроились в тени под тополем около здания военкомата на дворе. Стоял великолепный летний день, наши дела тоже, вроде бы, выглядели не дурно, но душевного ликования мы не испытывали. Сидели, молчали, погрузившись сами в себя. Только теперь я со всей остротой осознал, что надолго, возможно навсегда, покидаю свою деревенскую родину, где все так мило сердцу и уютно голове и телу. Только тут я задался вопросом: если прежде чем зачислить в училище крутят так, что окружающие тебя стены превращаются в узкую стремительно летящую ленту, а пол с потолком меняются местами, не придется ли что-нибудь подобное испытать в самолете?… Меня же при виде качелей тошнило. Наивный человек, оттуда, куда я позже попал, самолет по части укачивания, представляется зыбкой для сельского дитяти.
Занятый своими переживаниями, я не сразу заметил подошедшего к нам мужчину средних лет в белом с золотыми погонами кителе, белой фуражке с черным околышем и лакированным козырьком в золотом орнаменте. Военных в такой форме я раньше не видел и догадался, что перед нами офицер флота, только разглядев якоря на пуговицах кителя.
-Здравствуйте, товарищи, — вежливо и, вроде бы, без иронии поздоровался с нами блестящий офицер. Что не веселы? По всему видно готовитесь к маневру «все вдруг на обратный курс». В какие войска отказались принять таких орлов?
-Нас уже приняли … в летчики.
-Понятно, — собеседник энергично зафиксировал в своем сознании выясненную ситуацию. – Ух, жарища! Как печет! – он снял фуражку и белоснежным носовым платком промокнул себе лоб, затем тщательно вытер внутреннюю часть околыша головного убора. – Друзья, не охладиться ли нам пивком? – моряк непринужденно, словно старых знакомых пригласил нас разделить с ним компанию и жестом показал на пивной ларек, на другой стороне улицы.
Мы смущенно переглянулись: какое там пиво? В карманах по пятерке на брата и предназначены они не на пиво – на устройство будущей жизни.
- Пойдемте, угощаю, — он правильно понял нас.
В те годы ни Толя, ни я тяги к пиву не испытывали, но отказать достойному, по-видимому, очень достойному человеку мы не решились.
После пива офицер пояснил, что он, капитан 2 ранга Кукор, является представителем Рижского военно-морского училища, что училище только что создано, оно закрытого типа, готовит флотских офицеров, дает высшее образование, и осведомился о нашем отношении к военно-морской профессии.
В те годы летные училища выпускали своих питомцев со средним образованием, а тут предлагают высшее, как в институте.
И … мы согласились. Но, согласившись, мы усомнились, можно ли изменить уже определившийся профиль нашей судьбы. Кукор успокоил нас: переоформление документов и согласование с комсомолом — в летчики мы шли по комсомольским путевкам — он берет на себя.
Видно у этого человека слово и дело были равнозначны. Не прошло и четверти часа, как он вышел из военкомата и объявил, что наше будущее не в небе, а в море. Как видите, в семнадцать лет за кружкой пива в хорошей компании даже очень серьезные дела решаются быстро.
Если бы я знал о тех физических мучениях, которые впоследствии пришлось испытать на море, скорее всего не принял бы предложение капитана второго ранга. Между тем испытания наступили весьма скоро. Еще до принятия военной присяги, начальник училища капитан 1 ранга Безпальчев Константин Александрович, посадил наш набор на небольшую моторно-парусную шхуну «Нахимовец», дождался свежего ветра и вывел шхуну в Рижский залив, дабы сдуть с юношей верхний слой романтической дури, авось, которые послабее, сбегут с морской службы и тем самым избавят от мучений и себя и других. Действительно, вскоре после морской прогулки объявили, что желающие могут перейти в другое училище, которое готовит аэродромную обслугу флотской авиации. Четвертая часть моих однокурсников с энтузиазмом ушли подальше от моря. Я же остался, хотя причину навсегда расстаться с водной стихией имел более чем основательную, что подтверждает первый же опыт встречи с ней.
Плавание началось вполне благополучно. Нас расписали по бачкам. Накормили крутым флотским борщом, кашей-сечкой со свиным салом. Обед запили сладчайшим компотом. Между тем по мере удаления от устья Даугавы волна усиливалась. Брызги от волн начали долетать до бака, и мы бегали туда. Возле самого бушприта жались к борту, стараясь увлажнить юные лики. Потом облизывали губы. И, хотя вода в Рижском заливе пресная, губы казались нам горько-солеными. С каждой минутой плавания во мне укреплялся дух морского волка. Было радостно и легко. Казалось, солнце, ветер, волны обняли меня и понесли в неизведанную прекрасную даль.
Однако море все больше разыгрывалось, и мои впечатления от внешнего мира начали тускнеть. Со временем я потерял интерес к волнам и старался на них не смотреть. На бак больше не бегал, инстинктивно нашел место наименее подверженное качке, так называемый корабельный пуп, и съежился там. Голова налилась свинцовой тяжестью, туловище же потеряло свою телесную суть, словно его покинули кости, мышцы и внутренности, лишь противный живому естеству ком непереваренной пищи остался бултыхаться в кожаном мешке. На лбу выступил холодный пот, липкая сладковатая слюна заполнила полость рта. Хотелось плюнуть, но плюнуть было некуда. Между тем ком изнутри мешка полез вверх — наружу. Я бросился к планширю.
-Не погань борт, — оттащил меня за шиворот невесть откуда взявшийся боцман.
Полегчало…, да не надолго. Вскоре позорные позывы повторились, затем стали непрерывными. Выпучив глаза, я метался по палубе, уже не закрывая рта. Хорошо что стемнело. Спуститься в кубрик и лечь побоялся. Тогда я еще не знал, что качка в горизонтальном положении переносится легче и считал: если лягу — умру.
Трудно сказать, сколько длились мои мучения. Не только счет времени, но и память потерял. Очнулся на рундуке в кубрике, совершенно не помня, как туда попал. Не качало. В кубрике все рундуки и койки были заняты спящими. Поднялся. Руки и ноги тряслись. Насилу вышел на верхнюю палубу. Утро только занималось. Кругом было пусто, лишь на ходовом мостике виднелись две человеческие фигуры. Шхуна стояла на якоре в устье реки, откуда вышла накануне. Меня все еще тошнило.
После этих испытаний разве можно было не пожелать вернуться в размеренный быт земледельца, давным-давно устоявшийся вдали от всяких морей на незыблемой тверди среднерусской равнины. И я решился на побег. Нашел Толю Белинского и заявил:
-Как только пристанем к берегу, убегаю домой!
-Ты что?! У тебя же ни копейки денег нет. Отсюда до твоего Стана тысяча километров.
-Ничего, где пешком, где на товарняках — доберусь.
-А что жрать будешь? — видя, что вопрос не возымел должного впечатления, мой друг продолжал: — Засуууудят… Шмотки-то казенные. Или голым собираешься драпать?
Действительно, к тому времени гражданская одежда у нас была изъята, и каждому были выданы совершенно новые бескозырка с лентой (на ленте золотом: «Военно-морские Силы»), белая брезентовая роба, тельняшка, кальсоны, крепкие яловые ботинки с сыромятными шнурками и прочее — по мелочам.

курсант Белинский А.И.
Я сник. Контраргументов не нашлось. Через какое-то время, когда морская болезнь прошла, с ней ушла и мысль о побеге.
Перед началом занятий, кроме похода на «Нахимовце», мне пришлось испытать немало других превратностей судьбы, правда не физического, а скорее морального порядка. Как и все новобранцы, я тяжело тосковал по дому, по привычному с детства миру. Всю дорогу к морю, начиная с Лихославлвля, тоска во мне росла и, кажется, достигла предела, когда наша колонна душным июльским днем 1952 года, проследовав от вокзала, втянулась во двор училища на бульваре Падомью в Риге и за нашими спинами, издав надрывный ржавый стон, закрылись черные железные ворота.
В училище нас, пока еще одетых в гражданское, с первых же дней начали приучать к военной жизни: подъем, отбой, строем в столовую и прочее. Дисциплину, воинский порядок вообще, я воспринимал как должное. Угнетало же общество незнакомых, нетерпеливых, задиристых юношей готовых зло посмяться друг над другом, попросту обидеть подобного себе. Большинство кандидатов в курсанты были набраны из городов и рабочих поселков — народ бойкий, тертый, среди них я выглядел неловким косноязычным деревенским мальцом (что уж говорить «выглядел» — таковым фактически был).
Трижды в день мы ходил за пол километра в столовую Нахимовского училища, которая располагалась в старинной Песочной башне.
-Ты, ушастый, не тяни ногу — на коленку наступлю! — шепотом, но так чтобы слышал весь строй, предупреждали сзади.
-Не наступай на пятки, деревня, — шипел впереди идущий.
Старшина сверхсрочной службы, приставленный к нам в качестве дядьки-командира, покрикивал:
-Ножку! Ножку держать, сено-солома. Ррррраз! Ррррраз! Ррррраз, два три-и-иии.
Я старался никого не задевать, и, казалось, всем только мешаю.
Как и следовало ожидать, мои ветхие ботинки не выдержали ежедневной маршировки по булыжным мостовым Риги, и вскоре подошвы на них отвалились. Что делать? На последние деньги купил два десятка булавок и булавками закрепил подошвы, после этого мой шаг по камням отзывался цокотом, словно поступь боевого коня. Цокот вызывал насмешки свидетелей моего неблагополучия, отчего я все больше злился и все больше скучал по былой жизни.
Конечно же, соискатели курсантского звания, как и большинство подростков того времени, изведавшие лихолетье войны и послевоенных годов, ангельских крылышек за спиной не имели, но и злыднями их нельзя принимать. Просто у мальчишек, оторванных от привычной среды, в кругу малознакомых людей выработались жестокие приемы самоутверждения и самозащиты. Впоследствии с большинством из них я прожил под одной крышей боле четырех лет и убедился, что на самом деле мои сокурсники — прекрасные, отзывчивые люди.
Итак, первые дни пребывания в училище для меня сложились невесело. Сдача вступительных экзаменов тоже не способствовала хорошему настроению: по письменной математике схватил двойку. В таких случаях более проворные неудачники, не дожидаясь решения об отстранении от дальнейших экзаменов, забирали документы и устраивались в соседнем Краснознаменном училище береговой обороны. Я же, настроенный капитаном 2 ранга Кукором на корабельную волну, держался, мне не нравилось словосочетание «береговая оборона».
Худа без добра не бывает, иногда и мне фортуна улыбалась. Сошлюсь на экзамен по химии. За четверть часа до того, как я, согласно очереди, должен был предстать перед экзаменаторами, случилось несчастье — мои хлопчатобумажные брюки лопнули на правом колене. Прореха образовалась довольно внушительная — с пол метра. Выручил Толя. Не раздумывая, он оторвал блестящую саржевую подкладку от своего трофейного немецкого френча:
-Пришивай скорее.
На живую нить я кое-как залатал дыру и пошел. Открыл дверь в класс. За столом сидел только один экзаменатор — худой, аскетического вида инженер-полковник. Ну, думаю, пропал… «Хум хукка пертих – ламбахат лавчийн алла» — молюсь про себя. Сам боком, боком, чтобы полковник не заметил заплату на брюках, продвигаюсь к столу.
-Кандидат Балакирев для сдачи экзаменов по химии прибыл.
Взгляд полковника скользнул по моему лицу, одежде, и задержался на булавках, которые окаймляли подошвы ботинок, словно зубы крокодилью пасть.
-Берите билет.
Я взял, но, что там, прочитать не успел.
-Откуда родом? — гневно, как мне показалось, спросил экзаменатор.
-Из Калининской области.
-О-о-о-о! Земляк!!! — радостно закричал полковник (вот-вот бросится на шею), — Иди, голубчик, ставлю тебе отлично.
Не веря ушам своим, ошарашенный, я выскочил из помещения. Много лет спустя, к нам на подводную лодку был назначен старший лейтенант Целик. Фамилия достаточно редкая. Я спросил офицера: — не его ли отец преподавал химию в Рижском училище? Получив утвердительный ответ, поинтересовался — где в Калининской области жил родитель. Он удивился и сказал, что насколько ему известно, никто из Целиков на Тверской земле никогда не проживал…
С грехом пополам, не мытьем так катаньем, я покончил с экзаменами и был представлен на экзаменационную комиссию, которая должна была вынести окончательный вердикт — быть или не быть мне курсантом. Члены комиссии увидев меня, очевидно, поняли: из стен училища этого парня выпускать нельзя — не доедет до родного дома — и двойку простили. Других причин отказать в приеме на учебу мне и моему другу Белинскому не нашлось. У обоих биографии и родословные безупречны и даже похожи. Оба из крестьян одного колхоза; у обоих из родителей живы только матери; оба учились в одной школе; у обоих в анкетах: нет, не был, не имею, не имел, не владею, не состоял, не привлекался … оба карелы. Нужно сказать, что в то время к малым народам и, вообще к нерусским, было какое-то особое доброжелательное отношение со стороны русских. В один из отпусков мы — Белинский и я — решили прокатиться экскурсией по Москве. Сели в троллейбус и покатили по городским улицам, обмениваясь впечатлениями на карельском. Подходит кондуктор. Протягиваю монету. Кондуктор денег не берет, улыбается: поезжайте бесплатно, любуйтесь столицей.
Нас зачислили на первый курс. Наши однокурсники были набраны, в основном, из Москвы и центральных областей России. Второй и третий курсы сборные – из учащихся военно-морских учебных заведений со всего Союза. Четвертого курса в первый год функционирования училища не существовало. Русские, украинцы азербайджанцы, белорусы, армяне, евреи, грузины, эстонцы, латыши, карелы и даже финн – Витя Хянинен – вот люди скольких национальностей (уверен, еще не всех назвал) дружно жили и учились под одной крышей.
Вскоре после экзаменов нас, новоиспечённых курсантов, отправили на левый берег Лиелупе в лесной палаточный лагерь с целью сделать из «гражданских оболтусов» нормальных военных людей, которых впоследствии можно будет обучать военно-морским наукам.

Курсант Балакирев Н.М.
Переделка нашего брата шла интенсивно в условиях довольно жёсткого режима. Подъём в 6.00, физзарядка. В зависимости от температуры воздуха физзарядку проводили в трусах и без тельняшек, или в кальсонах и тельняшках. В последнем случае курсантский строй при пробежке в сосновом бору выглядел занятно: белые кальсоны мелькали меж деревьев подобно спелым зайцам-белякам в оттепель, начисто растопившей былой снег. Посла 5-километровой пробежки выполняли гимнастические упражнения на стадионе, который нередко заливался дождевой водой. После зарядки — приборка, умывание и завтрак под навесом. Посла завтрака — утренний осмотр, различные виды общевойсковой подготовки и прочее. Перед обедом, независимо от погоды ежедневное купание в Лиелупе. Выстраивались на берегу в две шеренги, раздевались, складывали перед собой одежду и обувь и по сигналу горна устремлялись в воду. Старшина роты Алешин зорко следил, чтобы ни один курсантский торс не высовывался из воды в течение положенных 15 минут. Снова звучал горн, и мы в пупырках, как молодые огурчики, выскакивали одеваться. Одевшись, с лихими песнями с посвистом, скорым шагом шли обедать. А аппетит, кстати, лучше бы его не было. Пища поглощалась стремительно, к концу обеда продовольственники от щедрот своих добавочно выносил к столам черные сухари на противнях. Противни, не касаясь столов, пролетали над обедающими и очищались в воздухе до последней крошки. Затем следовал адмиральский час — все спали. После отдыха — гребля на шлюпках, изучение уставов, а перед ужином — урок физподготовки, который, обычно, был связан с водой. Закаленные в водах военной Балтики старшины-инструкторы физподготовки учили нас плавать, нырять и прыгать с вышки. Некоторые не умели даже держаться на воде. У старшин они были на особом учете, с ними занимались отдельно. В особую группу входили весьма мужественные люди.
- Курсант Мазаник!
- Есть.
- Обвязаться шкертом.
Мазаник завязывал у себя на талии веревку и докладывал:
- Курсант Мазаник к выполнению упражнения готов. Инструктор, взяв свободный конец веревки в руку, командовал:
— В воду! Курсант сигал с пирса в реку, отчаянно бил по воде руками и ногами, стараясь удержаться на поверхности, но вскоре, измаявшись в борьбе с весом собственного тела, который оказывался больше веса вытесненной им жидкости, шел на дно. Наставник вытягивал бедолагу за шкерт и поощрительно говорил:
- Молодец, хороший моряк из вас со временем выйдет.
Белее суровым испытанием для не умеющих плавать была пятиметровая вышка.
- Курсант Гордон, на вышку!
- Товарищ старшина, …
- Отставить разговоры! На вышку! Не волнуйтесь, вас спасут, — инструктор кивал в сторону своего голого коллеги, устроившегося под вышкой.
Гордон медленно взбирался на площадку для прыжков, зажмуривал глаза и шагал в бездну. В падении его разворачивало в положение отличное от вертикального и он, подняв фонтан брызг, прощался с атмосферой. Внимание страхующего к происходящему повышалось, но со своего места он не трогался. Через малое время голова с круглыми глазами все же на секунду появлялась из воды, затем исчезала. Присутствующие еще могли наблюдать один иди два судорожных взмаха руками в воздухе, и поверхность реки успокаивалась. Только после этого спасатель, словно баклан, стремительно нырял и вытаскивал утопленника.
В послеобеденное время, люди выделенные в суточный наряд готовились к разводу: стирали чехлы бескозырок, гладили одежду, чистили обувь, иголками шлифовали медные пряжки флотских ремней, изучали уставы и служебные инструкции, осваивали сигналы, которые надлежало подавать боцманской дудкой.
Начальник лагеря, он же начальник нашего курса, капитан 2 ранга Ляш В.И. перед разводом суточного наряда частенько лично собирал дежурных и дневальных, проверял их подготовленность к службе.
- Курсант Иванов, дать сигнал «Подъём».
Иванов дул в дудку.
- Не так, товарищ курсант, не так играете! От вашего свиста не вскочить, а уснуть хочется. Еще гакаборт ракушками не оброс, а уже ленитесь учиться. Смотрите, как следует применять боцманскую дудку.
Капитан 2 ранга правой рукой брал инструмент, плоскую его часть зажимал между большим и средним пальцами, подносил к губам мундштук и, раздувая щеки, манипулируя указательным пальцем над отверстием резонатора, извлекал чистые, повелительные звуки. ( Рассказывают, Н.С. Хрущёв, побывав на военном корабле, выразил удивление, что в век электроники на флоте сохранилась дудка, и дудка была запрещена.)
Вечером устраивались строевые или комсомольские собрания, проводились политбеседы, демонстрировались кинофильмы. Перед отбоем шли на вечернюю прогулку. Гуляли, разумеется, строем. Пели строевые песни:
«Ласточку», «Эх Ладога, родная Ладога…», «Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет…», «Москва — Пекин. Москва — Пекин…».
Иной раз в строю на нас нападала блажь. Вдруг, не сговариваясь, все начинали припадать на правую ногу, и вся колонна становилась хромой. Старшина останавливал строй.
Ну что ж, повыкабенивайтесь. Я подожду. Мне спешить некуда, у меня служба сверхсрочная, а вы позже положенного ляжете спать.
Мы внимали резонным словам командира и дальше шли нормальным шагом. Однако молодость из нас лезла наружу, и вскоре запевала затягивал не совсем приличную для строя песню: «По Летнему саду гуляя, я зуб коренной простудил.» «Ха-ха!» – хором гремела рота. — «От этой мучительной боли…»
Алешину такая песня не нравилась, но он терпел: не в городе, пусть ночной бор слушает, не выдержанную ни во флотском, ни в идейном смысле песню, деревья — не люди, перед ними не стыдно.
Спать полагалось по форме «ноль», то есть в чем мать родила, и дежурная служба за этим строго следила. Дежурный по лагерю заходил в палатку с электрическим фонариком, приподнимал ближний к ногам спящего край одеяла и светил фонарём. Если в луч попадало то, что положено увидеть — все в порядке, если же обнаруживались трусы — нарушитель отправлялся драить гальюн.
В воскресные дни проводились футбольные, волейбольные, баскетбольные встречи, шлюпочные гонки, кроссы, соревнования по плаванию. За лагерный сбор даже я физически окреп, поправился килограмм на 5, а на кроссах стал прибегать к финишу одним из первых.
В совместных трудах и заботах люди постепенно притирались друг к другу, меньше стало ненужной задиристости, но всякого рода розыгрышей, шуток даже прибавилось.
После отбоя засыпали не все вдруг, рассказывали были и небылицы. Великое множестве анекдотов знал Юра Тесленко. Розовощекий, толстогубый увалень был не прочь «сакануть» от любой работы, но позабавить публику никогда не отказывался. Анекдоты из него сыпались беспрерывно час и два и дольше, были бы слушатели, и такие, готовые пожертвовать даже сном, находились. Те же, кто дорожил драгоценным сном больше чем забавой, возмущались и однажды решили наказать анекдотчика. В темноте они схватили Тесленко и распяли на спинке двухъярусной койки, привязав его руки и ноги простынями к железным прутьям. Распятый матерился, вопил, дёргался, пытаясь освободиться, да напрасно. Шум услыхали в офицерской палатке, и к нам пришел сам командир роты капитан-лейтенант Жлудковский. Включил свет и увидел голого казненного, который в отличие от Христа, даже набедренной повязки не имел.
-Отвязать! — приказал командир роты. Двое голых бросились исполнять приказание. Освобожденный Тесленко рухнул на земляной пол.
— Кто? — продолжал рубить Жлудковский, обращаясь к поверженному.
— Не знаю, товарищ капитан-лейтенант, ведь темно было, — Тесленко мужественно отказался от показаний.
— Темно, говорите? Два наряда на службу вне очереди, — командир вынес скорый приговор анекдотчику и вышел из палатки. Вероятно ему стало ясно, что жертва заодно с палачами, подлинных виновников искать бесполезно.
— Есть 2 наряда вне очереди, — уныло произнес Тесленко вслед уходящему офицеру.
Однако история на этом не завершилась. Добродушный Хохол (такое прозвище имел Тесленко) оказался злопамятным и через несколько дней своих обидчиков, а заодно с ними и многих безвинных людей, наказал довольно-таки оригинальным способом.
Перед тем, как рота разместилась под кроной могучего дуба на очередное занятие, Тесленко влез на дерево и спрятался в его кроне. Стоял один из тех дней бабьего лета, о котором Фёдор Иванович Тютчев писал:
«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора,
Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера».
Как раз такой, поистине хрустальный, день выдался. Над теплой землей восходящими потоками струился воздух, на небе — ни облачка. Божья благодать снизошла на мир.
Вдруг осенний жесткий лист дуба зазвенел, посыпал дождик. Руководитель занятия подполковник Богданов и курсанты возвели очи к небу в поисках источника столь невероятного сюрприза. Небо по-прежнему было безоблачным, но на дереве они увидели Тесленко, который, расстегнув клапан своих брюк брызгал направо и налево отнюдь не небесно влагой. Поднялся гвалт. Возмущенная публика кинулась сбивать нахала камнями и палками. Подполковник остановил самосуд.
Занятия в училище начались 1 октября. Пятиэтажное здание училища имело подковообразную форму и фасадом выходило на бульвар Падемью, улицу Кришена Барона и сквер на берегу речки. Тыльная сторона здания и флигель образовывали замкнутый двор. В сквере находилась металлическая вышка с радиоантеннами. Поскольку никакой надписи извещавшей о предназначении здания на его стенах не было, то среди населения наше училище именовалось «Вышка».

Учебный корпус ВВМУПП г.Рига
До образования училища его здание принадлежало какой-то гражданской организации. К началу занятий внутренняя переделка здания не была завершена. Еще стелили паркет, заканчивали отделку фойе и зала клуба. Так как клуб вынужденно бездействовал, его начальник со своими помощниками занимались в основном изготовлением стендов из роскошного малинового и голубого бархата и толстых золотых багетовых заготовок. На бархатное поле наклеивались фотографии вождей и снимки, иллюстрирующие духовную, экономическую и военную мощь государства. Иллюстрации сопровождались текстами, составленными из накладных белых букв. Адская работа. Тем не менее, вскоре все коридоры и фойе были увешаны этими великолепными произведениями кропотливого труда. Встречаясь взглядом с ними, я прикидывал, во сколько же обходится такое произведение, и полученную сумму сравнивал с доходами нашей семьи.
К новому 1953 году ремонтно-строительные работы были закончены. Классные помещения, лаборатории, учебные кабинеты, лекционные залы, кабинеты для администрации и преподавателей, жилые кубрики, клуб, камбуз, столовая, хозяйственные службы, склады, даже квартиры училищного начальства располагались в едином здании, что было очень удобно, хотя и тесновато. В последствии под жилье нам выделили помещения бывшей тюрьмы в конце бульвара Падомью.
В училище при его создании предполагалась готовить корабельных артиллеристов, потребность которых в ближайшие годы должна была резко возрасти в связи с принятой новой кораблестроительной программой, (в частности, предусматривалось строительство тяжелых крейсеров с мощным артиллерийским вооружением).
Издавна офицеры-артиллеристы считались элитой флота. Командование военно-морского флота, очевидно, сознавало, как нелегко готовить элиту из ребятишек военного времени, поэтому подобрало для нового учебного заведения неплохой преподавательские состав.
Опекало нас и руководство Латвийской ССР. Училище часто посещали секретари ЦК КПЛ Я.Э. Калнберзин, А.Я. Пельше и Председатель Совмина республики В.Т. Лацис. Не хвастовства ради, а в подтверждение сказанного сошлюсь на то, что за время учебы я в числе других награждался грамотами ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ и одну из них в училищном клубе вручал В.Т. Лацис, другую А.Я. Пельше. Конечно же, известные и, вероятно, занятые люди приходили к нам не для того чтобы посидеть в президиуме торжественного собрания и пожать руку награжденным. Они, очевидно, понимали, что их внимание к нам отзовется в наших сердцах тёплым, дружеским расположением к народу Советской Латвии, к латышской молодежи и, думаю, не ошиблись: не помню случая каких-либо недоразумений с местным населением за все годы учебы в Риге.
Такое положение вряд ли устраивало противников советской власти в Латвии. Зимой 1953 года не вернулся из увольнения курсант младшего курса, латыш по национальности (запамятовал его фамилию). Труп курсанта нашли только весной в Даугаве. По училищу ходил слух: экспертиза установила, что человек сначала был убит, затем утоплен. Вообще-то из латышей у нас буквально единицы учились: на нашем курсе – Янис Захаров, на год позже нас – Янис Карлович Круминьш (впоследствии флагманский штурман эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота) и вот – его однокурсник.
Государственный оперный театр, располагавшийся через улицу, шефствовал над нами. Довольно часто в училище выступали Пакуль, Дашков и другие артисты театра. Редко, но все же курсанты выезжали в колхозы помогать в уборке урожая. Там после работы нас кормили вкусной крестьянской пищей. В метельные зимы мы расчищали подъездные пути к предприятиям.
Мы принимали участие в массовых мероприятиях городской молодежи. Запомнились факельные шествия по ночным улицам, многолюдные гуляния в центре города в государственные празднике и в Межа-парке в Янов день (Лиго), праздники песни там же в Межа-парке.
У контр-адмирала Безпальчева и начальника политотдела капитана 1 ранга Бровцина, судя по всему, сложились добрые отношения с городскими и республиканскими властями.

Начальник училища контр-адмирал Безпальчев К.А.

Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов
Случись мне писать служебную характеристику начальнику нашего училища, написал бы так: широко образованный офицер, строгий, заботливый начальник, умелый воспитатель. Смею думать, примерно так характеризовал контр-адмирала Безпальчева и Главнокомандующий ВМФ Н.Г. Кузнецов, несколько раз представляя его к адмиральскому званию, но при жизни Сталина он адмиралом так и не стал, поскольку выходцем был из дворянской среды, а морской кадетских корпус окончил ещё в дореволюционное время. ( Очередное воинское звание он получил только в 1953 году.)
— Я — старый служака. Вам, молодым, трудно даже представить, что ваш покорный слуга, будучи гардемарином, стоял на часах у дверей будуара императрицы российской, а в годы граждански войны, командуя эскадренным миноносцем, по решению судового комитета наравне со всеми чистил картошку на камбузе, — говорил он, беседуя с курсантами.
По ряду причин мы побаивались начальника училища, старались не попадаться ему на глаза, но между собой уважительно называли «папой». «Папа идёт!» и… скрывались за углом. Однако если приходилось дежурить по камбузу, от встречи с адмиралом уклониться было невозможно. Ежедневно за пол часа до обеда дежурный по камбузу, который назначался из курсантов старших курсов, обязан был в сопровождении шеф-повара представлять приготовленную пищу на пробу. Попробовав блюда, адмирал давал оценку и, поблагодарив, отпускал повара, а дежурному предлагал присесть и начинал задавать вопросы, всегда неожиданные.
— Ну-с, молодой человек, какую оперу вам довелось послушать в последнее время?
-«Иван Сусанин».
-Композитор?
— Глинка.
— Михаил Иванович Глинка. Какое событие в отечественной истории нашло отражение в опере? Каковы на ваш взгляд причины наступления смутного времени в Русском государстве начала 17 века?
Другой раз он мог завести беседу, скажем, о войне Алой и Белой розы в Англии. Расспрашивал, что же курсант знает о Ланкастерах и Иорках. Следующий раз резким, хрипловатым голосом Константин Александрович вопрошал:
— Ну-с, какие созвездия зимнего неба в нашем полушарии вам известны?
— Орион, Телец, Сириус…, морщил лоб страдалец.
— Стоп, стоп! Сириус, положим, — не созвездие, а звезда, но о Сириусе потом. Остановимся на Тельце. Какая самая яркая звезда в сём созвездии?
— Альдебаран.
— Верно. Напомните-ка древнегреческую легенду, связанную с Тельцом.
— ……. (полный ноль)
— Следовало бы интересоваться, молодой человек, древним миром и даже древней мифологией. Как ни странным покажется, но мифы древней Греции помогли бы вам освоить звездное небо, знание которого моряку просто необходимо. Если я не запамятовал, согласно легенде, Телец, то есть бык, переплывает Гелеспонт, чтобы похитить Европу. Надеюсь, вы знаете картину Валентина Александровича Серова «Похищение Европы». Так вот, глаз этого разъяренного быка есть звезда альфа Тельца или Альдебаран. А теперь перейдем к самой яркой звезде всего небесного свода — Сириусу, священной звезде Древнего Востока.
«Далекий Сириус, холодный и немой!
Из ночи в ночь надменно
Сверкаешь ты над сумрачной землей,
Царишь над бедственной, вселенной».
Продолжайте это чудесное стихотворение Брюсова.
— Я не помню.
— Вот и я тоже забыл.
Час, проведенный в кабинете начальника училища, считался самым трудным часом в суточном дежурстве по камбузу. Готовясь к заступлению в дежурство, курсант бегал по факультету, проводил опрос людей из предыдущих нарядов — на какую тему с ним беседовал адмирал; в день увольнения в город вместо танцев шел в театр или рылся в библиотеке, готовясь к высокой беседе.
Рассказывая о контр-адмирале Безпальчеве нельзя не упомянуть в его супруге Елене Тимофеевне. Даже в почтенные года она сохранила красоту и стройность. В ней удивительным образом сочетались величавость и простота. Елена Тимофеевна часто приходила в училище, почти всегда присутствовала на торжественных собраниях и концертах в клубе. При случае беседовала с курсантами, приглашала в гости. В гости к Беспальчевым я, конечно, не ходил, — робел, но более шустрые ребята бывали у них и рассказывали, что хозяйка угощает очень вкусными пирожками с чаем.

И.С.Кабо

Заместители Беспальчева капитан 1 ранга Гаврилов (по учебно-научной части) и капитан 1 ранга Горский (по строевой части) тоже были в годах, возможно, даже старше начальника. Они, как впрочем, и большинство преподавателей начальной поры нашего обучения — капитаны 1 ранга Иосса, Казанцев, Подпоринов, Чирухин, Дмитриев, Сидоров, полковники Грошев, Хойхин, представлялись мне старомодными, отрешенными от всего прочего кроме своих служебных обязанностей, излишне педантичными офицерами. Но именно указанные качества, как теперь думается, позволяли им надлежащим образом исполнять свою службу, и в то же время настраивать нас, курсантов, на сдержанное поведение и строгое отношение к делу.
Невозможно себе представить, чтобы капитан 1 ранга Горский как — то впопыхах, небрежно, отдал бы воинскую честь курсанту или матросу, по иному, чем, скажем маршалу. Увидев, что его приветствуют, седой, в годах капитан 1 ранга напрягался всем корпусом, прижимал к бедру левую руку, четко поворачивал голову в сторону отдающего честь и прикладывал ладонь правой руки к головному убору. Стоило ж командирам сочинять планы строевых занятий, бегать утверждать планы у начальства, надрываться на плацу, обучая курсантов приемам воинской вежливости, если Горский эту работу выполнял за них легко и просто ежедневно.
Курсанту стыдно было появляться на лекцию начальника кафедры кораблевождения капитана 1 ранга Иоссы в неопрятном виде, если лектор к аудитории приходил неизменно безупречно одетый: в тужурке — будто только что от портного, в накрахмаленной манишке, до зеркального блеска начищенных ботинках.
Не секрет, что ученик, озабоченный состоянием своей головы — как бы ненароком не лопнула от ума — в конце занятий старается увести учителя от изучаемой темы в сторону необременительного разговора. С нашими преподавателями такие фокусы проходили очень редко, а с преподавателем мореходной астрономии Александром Ивановичем Чирухиным — никогда. Курсант, утомленный решением астрономических задач, в стремлении прервать их нескончаемую череду, жаловался: дескать, ему что-то не понятно. В этих случаях вопрос и ответ на вопрос звучали примерно так:
— Товарищ капитан 1 ранга, согласно условиям задачи я установил звездный глобус по широте места и местному звездному времени, но искомой звезды Антарес на видимой части небосвода не оказалось.
Не могли бы вы пояснить такой казус?
— По-вашему — Антарес свалился с неба? Как это случилось, я объяснить не могу. Читайте Бориса Павловича Хлюстина, у него вы найдете ответ на любой вопрос. (Профессор Б.П. Хлюстин — автор учебника «Мореходная астрономия»).
Но случались обстоятельства, которые даже капитана 1 ранга Чирухина вынуждали не замечать проказы своих подопечных. У нас все принято делать по плану. На штурманский поход во время летней практики спускался план, который предусматривал обязательное число астрономических обсерваций по звездам, солнцу, планетам и луне. Небо в облаках или нет, но к концу практики 50 обсерваций вынь да положь. Когда практика близилась к своему концу, а план проваливался, Александр Иванович все чаще спускался в кубрик и, насупив брови, громким, четким голосом распоряжался:
-Товарищи курсанты, выходите на верхнюю палубу, берите высоты солнца.
-Солнца нет, товарищ капитан 1 ранга.
Возражения курсантов преподаватель отказывался принимать:
-Не было бы солнца — было бы темно, — изрекал он.
План есть план. Не выполнишь план по задачам — жди неприятностей. Даже отпуск могут сократить. И курсант, несмотря на плотную облачность, проникал своим воображением сквозь тучи в космические дали, где сияли дневные и ночные светила, замерял их отстояние от горизонта в угловых величинах и, задавшись координатами корабля с путевой карты, выдавал «квазиобсервованное» место, решая задачу обратным ходом.
Как уже говорилось, наши преподаватели к процессу обучения относились серьезно, ответственно, обязательно. Даже, кажется, не слишком обремененный высокой наукой предмет, как морское дело, преподавался весьма обстоятельно, на высоком организационном уровне.
Капитан 1 ранга Дмитриев, сурового вида крупный мужчина, на занятия по морскому делу приходил всегда в сопровождении невысокого роста, но тоже сурового на вид, капитана 3 ранга , на передней части коротко стриженой головы которого размещалось как будто не лицо, а маска, только что вылепленная из красной глины. Яркие, голубые, глубоко посаженые глаза придавали его лицу еще большее сходство с маской, поскольку казалось, что именно они принадлежат настоящему лицу, ничего общего не имеющему с видимым обличием-маской. Капитан 3 ранга обычно что-то приносил с собой, вернее торжественно вносил, модель шлюпки, или свертки учебных плакатов, или портфель своего «сюзерена» и, непременно, длинную, метра три, полированную деревянную указку.
Разместив все внесенное там, где им положено находиться, офицер садился на стул в переднем углу помещения и застывал до конца занятий. Курсанты, вечно страдающие от недостатка сна, удивлялись: как ему удается при такой неподвижности не заснуть.
Капитан 1 ранга Дмитриев в конце занятия имел обыкновение проверить глубину усвоения слушателями предмета его рассуждений.
— Курсант Гурков!
— Есть, вскакивал Гурков.
-К стенду!
— Есть!
— Доложите названия и покажите представленные на стенде морские
узлы.
— Выбленочный узел, — конец указки упирался в хитрое сплетение веревок закрепленных на доске, — беседочный узел, тройной штык….
— Достаточно. Передайте указку моему ассистенту (так он называл расположившегося в углу капитана 3 ранга) и садитесь на место.
Совершенно невозможно было понять, довольны суровые учителя докладом или нет.
Ровно за минуту до звонка капитан 3 ранга вставал, собирал все, что принес. Звонил звонок. Капитан 1 ранга командовал:
— Окончить занятия!
— Встать, смирно! — немедленно реагировал дежурный по классу.
— Вольно. Благодарю за внимание. И офицеры неспешно удалялись.
Боюсь: у читателя создастся впечатление, что наши преподаватели были сухарями, этакими ходячими схемами. Это не так. Просто в ту пору на флоте было принято своим эмоциям не давать волю при исполнении служебных обязанностей. Такое качество, по-моему, очень нелишнее для людей корабельной службы, плотно живущих в ограниченном пространстве. Другое дело — удавалось ли оставаться невозмутимым при любых обстоятельствах?
Помнится на втором или третьем курсе (тогда нас готовили уже не по артиллерийскому, а по штурманскому профилю) на Таллиннском рейде на учебном корабле «Комсомолец» проводилось с нами практическое занятие по уничтожению и определению девиации магнитного компаса. Занятиями руководил капитан 2 ранга Иваненко. Сначала он намеревался сам произвести необходимые манипуляции с компасом, рассчитать таблицу девиации, записать сведения о положении магнитов и мягкого железа, затем установки сбить и заставить обучаемых по очереди все сделать самостоятельно, сверяя с тем, что получилось у него самого. С этой целью преподаватель удалил подальше от компаса всех курсантов, в помощь себе оставил одного меня, вменив мне в обязанность держать футляр с магнитами в отдалении от компаса и нужный магнит подносить только по требованию, а также поддерживать голосовую связь с ходовым мостиком корабля для обеспечения необходимого маневрирования.
«Комсомолец» маневрировал, Иваненко колдовал с компасом, ребята, обрадованные неожиданно свалившимся свободным временем, расселись на палубе и ничего не делали. Я стоял с футляром тоже без дела и без злого умысла. Умысла не было, но любопытство присутствовало, и я незаметно для себя и преподавателя приблизился к компасу настолько, что стал заглядывать внутрь нактоуза. Время шло, но работа не продвигалась. Уже несколько раз ложились на норд магнитный, капитан 2 ранга продольными магнитами сводил девиацию к нулю; поворачивали на зюйд, половинили величину девиации, затем подобные действия проводили на осте и весте поперечными магнитами, но стоило начать маневрирование по определению значений остаточной девиации, все труды пропадали.
-Не пойму в чем дело. Неужели пружина в фуражке влияет на показания компаса?
Он снял фуражку, протянул мне … и вдруг подскочил как ужаленный. Его рот судорожно открывался и закрывался, но звуки оттуда не вылетали — не было слов. Помог жест: он поднес указательный палец к своему виску и, глядя на меня так, как смотрят здоровые люди на безнадежно больных, выразительно повертел пальцем. Я бросился прочь от компаса. Вскоре после этого у преподавателя все хорошо получилось.
В один из дней начала марта 1953 года читать лекцию по истории КПСС в аудиторию вошел капитан 1 ранга Иващенко. Едва взойдя на кафедру, он заплакал. Мы сидели пораженные, не понимая в чем дело. Наконец капитан 1 ранга несколько справился с собой и тихо произнес:
-Умер товарищ Сталин, — вновь заплакал и вышел из помещения.
Мы остались на местах, пораженные случившимся. Потом сказали, что в клубе выставлен портрет вождя в траурной рамке и нам следует пройти туда и проститься с покойным.
В первые, после смерти Сталина, годы нашей курсантской жизни также как и в жизни флота и всей страны, произошли значительные перемены. Была пересмотрена кораблестроительная программа. Прекратили строительство тяжелых артиллерийских кораблей, упор в развитии военно-морских сил перекладывался на подводные лодки. В связи с этим нас решили перековать в подводники. Раньше каждый курс сводился в две роты одной артиллерийской специальности, ныне создавались два факультета — штурманский и минно-торпедный. Начальство не долго ломало голову, кого на какой факультет определить. Первая рота составила штурманский факультет, вторая — минно-торпедный. Сильно желающие могли выбрать специальность, но таких почти не было. Будущих штурманов устраивало то, что при любых превратностях судьбы они останутся штурманами хоть в военном хоть в гражданском флоте, а минеры — будущие командиры БЧ-3 гордились, что в их заведовании будет основное подводное оружие — торпеды и мины.
С изменением профиля училища изменялся и преподавательские состав. Наставниками нашими стали вчерашние командиры подводных лодок, командиры и флагманские специалисты лодочных соединений. Они в преподавательском деле были не столь изощрены, как старые кадры, но с их приходом учиться стало интересней. От них веяло уверенностью, оптимизмом, демократичностью людей, вышедших победителями из недавней войны.
Заместителем начальника училища стал капитан 1 ранга Грищенко, начальником штурманского факультета капитан 1 ранга Кабо, начальником кафедры тактики контр-адмирал Цирульников, преподавателями Герой Советского Союза капитан 1 ранга Кесаев, капитан 1 ранга Аверкин и другие известные подводники. После ухода в отставку контр-адмирала Безпальчева, начальником училища стал контр- адмирал Федоров А.Д.
Астан Николаевич Кесаев, темпераментный южанин, осетин по национальности, лекции по тактике подводных лодок сопровождал весьма эффективной демонстрацией действий сил, участвующих в боевом соприкосновении. Он сбегал с кафедры, расставлял в стороны руки и начинал кружить по классу изображая противолодочный самолет. Обнаружив подводную лодку радиогидроакустическими буями, уточнял координаты магнитометром (индукционный приемник которого заменяла указка) и начинал нещадно бомбить, обозначая взрывы глубинных бомб ударами по партам той же указкой. На таких лекциях даже самому сонливому слушателю невозможно было заснуть. А если такое случалось, «глубинные бомбы» падали прямо на голову беспечного подводника.
На практических занятиях, которые проводились в форме групповых упражнений, Астану Николаевичу нельзя было покидать преподавательский стол с планом занятия, в котором были расписаны по времени вводные и ожидаемые решения по ним. Этим пользовались особо утомленные вахтенные офицеры (все участники группового упражнения выступали в роли вахтенного офицера подводной лодки) и ложились на грунт, то бишь укладывали свои головы на парту. Заметив такое, Астан Николаевич, не меняя тона своего голоса, чтобы ненароком не разбудить спящего, обращался к бодрствующим:
— Внимание, товарищи. Проводим научный эксперимент. Цель коего выяснить реакцию разбуженного подводника на изменение обстановки, которую он не успел осознать. Методика следующая: я называю фамилию отдыхающего, как будто вводная мною уже задана ранее, и мы пронаблюдаем результат опыта.
Все с живым интересом поворачивались в сторону подопытного. Преподаватель резким голосом продолжал:
- Товарищ Ильчик!
Леня вскакивал с криком:
- Все вниз! Срочное погружение. Погружаться на глубину 100 метров! — и вытирал сладкую слюнку в уголке рта.
Раздавался общий хохот. Ильчик вначале, не понимая в чем дело, хмурил брови, затем глуповато улыбался и уже потом, поняв, что над ним учинили розыгрыш, смеялся со всеми вместе.
Эксперимент Астан Николаевич завершал выводом:
— У подводника Ильчика прекрасная реакция на обстановку, в которой он не разобрался — немедленно погрузиться, правда на сей раз получалась неувязочка. Дело в том, товарищ Ильчик, что согласно предыдущей вводной, подводная лодка давным-давно находится на глубине 150 метров и с этой глубины на стометровую можно попасть только всплытием, но никак не погружением. Я вам только потому не ставлю двойку за неверное решение, что вы этого не знали, так как крепко спали.
Должен заметить: при все своей «демократичности» наши новые преподаватели, как и старые, каких-либо поблажек в учебе не давали. Сошлюсь на пример из личной учебной практики.
В начале первою курса на меня навалилось столько нового, необычного, непонятного в связи с обучением и несением службы, что я растерялся и начал хватать двойку за двойкой, наряд вне очереди за нарядом по очереди. Высшая математика, физика, химия, совершенно незнакомый мне ранее английский язык, технические науки, навигация, мореходная астрономии, артиллерийские дисциплины, обшественно-политические предметы и прочее, прочее; кроме сего прочего — многочисленные приборки, наряды на службу и на работу, тренировки при подготовке к праздничному параду. Одну лекцию не успеешь переварить, другая подошла, а тут на носу контрольное занятие, за ним семинар, а перед этим в суточный наряд сунули. Вот и выкручиваешься. Но как ни крутись – опять двойка. Вызвали на комсомольское бюро, членом которого, кстати сказать, я сам состоял. Песочили: если не «возьмусь за ум», не выправлю учебу, они – комсомольские мои товарищи – не будут заступаться за меня, когда командование решит отчислить меня из училища за неуспеваемость, наоборот – из комсомола вытурят. «О – о – о, -думаю, — дело пахнет керосином». Стал брать учебники на ночь в кубрик, на сторожевой пост пошлют и там читаю Фриша с Тиморевым (учебник физики), или Николаи (учебник по теоретической механике), или Бориса Павловича Хлюстина. Брошу книжку на пол, страницы штыком переворачиваю, в ночной тиши услышу шаги –«Стой. Кто идет?»- кричу, а сам щелк прикладом винтовки по книжке — книга в щель под дверь, на которой висит охраняемая мною дощечка с мастичной печатью.
Так понемногу стал выкарабкиваться из двоек: двойки поредели, затем совсем исчезли. Семестр окончил без троек и дальше учился нормально.
— Ага-а! Возымело! — встрепенулось комсомольское бюро и… взяло себе в заслугу благотворные перемены во мне, больше того избрало своим секретарем. Вce последующие училищные годы я оставался на этом общественном посту.
Разговор веду к тому, что, несмотря на утвердившееся с первого курса, так сказать, реноме усердного в учебе и активного в общественной работе курсанта, контр-адмирал Цирюльников чуть-чуть не вкатил мне двойку на последнем за выпускной курс экзамене перед самими Государственными экзаменами, двойка могла стать роковой в моей флотской биографии.
Экзамен держался по истории военно-морскою искусства. В билете, который выпал на мою долю, среди прочих вопросов значилось Ютландское сражение флотов Великобритании и Германии в первую мировую войну. На нем-то я и споткнулся.
Схема действий сил, выданная мне в помощь при ответе, была немая — без надписей. Не твердо зная предмет своего доклада, я перепутал местами враждующие стороны, вроде бы здраво полагая, что корабли изображенные развернутыми в Северном море ближе к немецкому побережью принадлежат Германии а на северо-запад от них — Великобритании. В действительности же, к моему несчастию, в том эпизоде боя, который был отображен на схеме, противники располагались в обратном порядке. А я, уверовав в свою догадливость, увлеченно рассказывал о действиях англичан, указку же настойчиво упирал в немцев и наоборот. Адмирал внимательно, не перебивая, выслушал меня и никаких вопросов не задал. Я посчитал, что пятерку заработал и с легким сердцем пошел заступать в очередной суточный наряд. А вечером товарищи сообщили, что мой ответ признан самым слабым со всего класса и мне насилу выведена тройка. Тройка мне не нравилась, но что поделаешь? Я смирился.
Однако экзамен имел продолжение. На следующий день меня вызвал к себе начальник факультета капитан 1 ранга Аверкин (к тому времени на посту начальника он сменил Кабо И.С.): пожурил, покурил и вынес решение:
— Будешь пересдавать! Пойдем к Цирюльникову.
Пришли. Узнав в чем дело, адмирал воспротивился:
— Нет, нет — никаких пересдач. Я и без того грех на душу взял. Вам, товарищ Балакирев, за такой ответ нужно бы двойку поставить.
То ли капитан 1 ранга захотел насолить минно-торпедному факультету, переплюнув по части отличников, то ли я ему просто приглянулся, сказать трудно, тогда о соцсоревновании в Вооруженных Силах еще слыхом не слыхали, но разговор с Цирюльниковым на этом не закончил.
— Иди, жди меня в коридоре, — с досадою указал мне на дверь.
Я вышел. Минут через пять появился и начфак.
— Завтра экзамен по истории сдают минеры, вместе с ними адмирал будет тебя экзаменовать повторно, понял? Только имей ввиду, спрашивать он будет по всему курсу, понял?
«Вот это удар! — ниже пояса. Все держат экзамен только по двум последним разделам курса, а мне предстоит отчитываться с древнейших времен до Второй мировой войны включительно. Еще учитывай: через три дня начинаются государственные экзамены!» — пронеслось у меня в голове и уже было хотел отказаться от повторных испытании да постеснялся обидеть своего покровителя и упавшим голосом ответил ему:
— Понял. Разрешите идти?
Экзамен я выдержал; на разборе итогов контр-адмирал Цирюльников отметил, что свою пятерку я заработал потом и кровью. Крови не было, но ночь пришлось провести без сна.
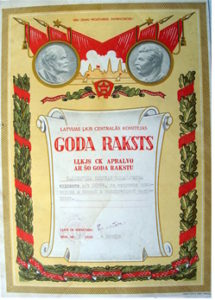
Грамота ЛЛКСМ, врученная курсанту Балакиреву Н.М. писателем Лацисом В.Т.

Грамота ЦК ВЛКСМ курсанту Балакиреву Н.М.
В летнее время мы проходили двухмесячную практику на учебных и боевых кора6лях. Если не ошибаюсь, в то время на Кронштадт базировалась целая дивизия учебных кораблей: линкоры «Октябрьская революция» и «Марат», минзаги «Урал» и «Ока», штабной корабль «Эмба», парусники «Седов» и «Крузенштерн», собственно учебное судно «Комсомолец» и другие. Учебные корабли выделялись, в основном, для штурманских походов. После первого курса такой поход мы совершили из Архангельска в Кронштадт на «Эмбе», а по окончании третьего курса плавали вдоль Прибалтики на «Комсомольце». Оба эти судна с паровыми машинам… Котлы «Эмбы», кажется, уже были переведены на мазут, а «Комсомолец» с дореволюционных времен оставался угольщиком. Как известно, корабли на угольном питании бункеруются по авралу, и курсанты, конечно же, участвовали в погрузке угля. Уголь перетаскивали в мешках. Черные от yгольной пыли мы воображали себя тропическими кочегарами. В море кроме основной штурманской вахты нам приходилось нести ходовую вахту в котельном отделении. После этой вахты песня «Раскинулось море широко», в которой страдает и умирает судовой кочегар, становилась ближе, роднее нашим сердцам, а образ тропического кочегара, чуть ли не явью.
Вахта была недолгой — всего два часа, но сменившийся вахтенный, едва приняв душ, падал на койку и спал, не поднимаясь даже на обед. Температура в котельной ниже +70°С не опускалась, а при чистке котлов превышала стоградусную отметку. В банной парилке такая жара терпима, но, когда в таком пекле нужно махать совковой лопатой — тяжело. Однако кому выпадала вахта у котлов считали, что им повезло. Поистине адской была работа в угольной яме, особенно в первые дни после бункеровки, когда приходилось выгребать уголь из дальних углов и сбрасывать к котлам лежа на кинжально острых кусках угля под самым подволоком. Температура в бункере держалась ничуть не меньше чем в котельной, а воздух бывал настолько насыщен угольной пылью, что свет электрической лампочки насилу пробивал расстояние в 2 — 3 метра.
Кочегарская практика вряд ли могла понадобиться будущим офицерам флота, в котором доживали свой век несколько угольщиков, но закалке флотского характера, несомненно, способствовала, а также учила уважать прошлое и ценить настоящее. Такие же воспитательские цели преследовались и при прохождении практики на парусных судах.
В 1954 году барк «Седов» под флагом контр-адмирала Безпальчева совершил длительный поход в Северную Атлантику с курсантами двух первых курсов нашего училища на борту. Барк был построен в Германии до войны и достался Советскому Союзу в счет репарации. Имея водоизмещение более 7 тысяч тонн, «Седов» считался одним из самых крупных парусных судов в мире. Его парусное вооружение состояло («Седов» до сих пор в строю) из 32 прямых и косых парусов. В качестве резервного двигателя имелся дизель небольшой мощности. Судном командовал опытный парусный капитан — капитан 2 ранга Митрофанов.

Барк «Седов»

Курсант Б.Г.Немилов — старшина спасательной шлюпки
Появление огромного величественного парусника в Датских проливах вызвало большой интерес у многочисленных здесь судов. Вокруг нас непрерывно кружили катера, подходили яхты, даже крупные суда меняли курс, стараясь пройти вблизи. Суда приветствовали нас, приспуская флаг, люди на них доброжелательно махали руками, что-то кричали, фотографировали.
Мы достойно несли военно-морской флаг своей страны в чужих водах, и гордость за родину наполняла наши юношеские сердца.
Океан встретил нас штормами. Тогда в походе я вел краткие записи. Они сохранились, некоторые выдержки из них можно привести.
«27 июля. Болтает. Волны огромные. Через люк вода попала в кубрик. Ветер 10 баллов. Под нижним фор-марселем и кливером даем до 9 узлов».
«28 июля. Продолжается бешеная качка. Ночью сорвало железный рундук с креплений, хорошо, что никого не придавило. Крен доходит до 30°. Трудно устоять на ногах, а спящие падают с коек. Сегодня я бочковой. Посуда высыпалась из рундука — минут 5 разыскивал по всему кубрику».
«30 июля. Долгая качка изнуряет. Сильно устал. Уже четвертые сутки болтает, крен доходит до 42°. Сушит. Сегодня ночью нес вахту. Ветер был особенно сильный. От входного люка до прокладочной насилу пробрались, держась за натянутый леер». Далее храбро заключал: «Но ничего — сдюжим. Если бы море было всегда гладким, поход был бы увеселительной прогулкой, а в таком походе моряку невелика цена. Но все, как раз, — наоборот». — Вот так то! — знай наших..

Рулевая вахта барка «Седов»
Действительно на «Седове» адмирал устроил нам жизнь далеко не прогулочную. Кроме двух штурманских вахт, по 4 часа каждая, мы все ежесуточно несли или парусную или рулевую вахту или дежурство на спасательной шлюпке, помимо этого нужно было присутствовать на занятиях по разным темам морской практики, решать астрономические задачи, три раза в день делать малую приборку, участвовать в авралах.
Занятия по Правилам предупреждения столкновений судов в море проводил сам адмирал. Помещение для занятий он выбрал (я думаю, преднамеренно) самое неудобное — в форпике. Тут следует отметить, что к плаванию в океане корабль был приготовлен далеко не идеально: в учебных кабинетах стояли обыкновенные столы и скамейки, не имеющие приспособлений для крепления к палубе. Вот какую запись я сделал тогда об одном из таких занятий «…после занимались в классе, которой устроен в самом носу корабля. Это черт знает что было, только не занятие. На качке скамейки валились, ломались ножки и мы летели на палубу. Тут впервые замутило меня. Вынужден был бежать».

Свидетельство на право управления парусной шлюпкой
Тот побег я помню до сих пор. Адмирал пояснял понятие «хорошая морская практика». Когда классная мебель задвигалась, многие из слушателей вопреки принятой у взрослых учеников практике начали проситься выйти вон. Руководитель разрешал. Я какое-то время терпел. Терпел столько, что спросить разрешение покинуть класс был уже не в состоянии: боялся открыть рот. Знакомое, позорное, противное подкатило к горлу. Я без спросу выскочил за дверь. В соседнем помещении под брезентом лежала разрезная учебная торпеда. Когда я пробегал мимо нее, мои силы были на исходе, их не оставалось чтобы дотянуть до верхней палубы, до борта. Мелькнула спасительная мысль: что если в пустое практическое зарядное отделение торпеды, после незаметно уберу. Сорвал чехол…, ПЗО оказалось наполненным.
Парусная вахта заключалась в работе с бегучим такелажем. При смене направления ветра или курса корабля требовалось разворачивать огромные стальные реи с прямыми парусами и переставлять косые паруса, для чего ослаблялись фалы, брасы, шкоты и выбирались такие же снасти другого борта. Чтобы выбрать снасть несколько человек, взявшись руками, повисали на ней. При частом изменении судном галса намаешься достаточно.
Постановка и уборка парусов производилась по авралу. Во время авралов курсантов для работы с парусами начали допускать на мачты только с выходом в океан. Сначала выбрали нескольких добровольцев, в их число попал и я. Нас расписали вперемежку с матросами довольно малочисленного постоянного экипажа и по команде в установленном порядке, мы лезли по вантам вверх. Благополучно миновав марсовую площадку, там имелся лючок и пройти через неё не составляло труда, на салинг же забираться приходилось, свисая спиной вниз, двигаясь подобно мухе по потолку, и такое положение на высоте метров 30 тревожило, но впереди и сзади шли опытные матросы, и все обходилось. Дойдя до нужной реи, мы расходились по пертам и занимали свои места с интервалом в 2-3 метра, крепили карабины страховочных поясов, ложились на реи, на бедрах повисали головой вниз и согласованными движениями рук начинали захватывать парус и шлагами укладывать под живот. Когда дело доходило до нижней шкаторины, паруса принайтовывали к рее и в обратном порядке опять же благополучно спускались вниз.
В спокойную погоду работа с парусами особых затруднений не вызывала но при свежем ветре, на качке, когда мачта (на «Седове» высота мачт более 60 метров) в своем размахе шла навстречу ветру, воздух становился плотным как вода, и летел с такой скоростью, что выбивал фуфайку из-под широченного спасательного пояса на шею. Даже это терпимо, хотя крайне неприятно. Поистине мучительной для меня была уборка парусов в дождь. Мокрый парус делался твердым, как жесть, при работе с ним ломались ногти, кожа стиралась до мяса, пальцы кровоточили.
Случались пиковые ситуации. Однажды у меня волосы стали дыбом при уборке верхнего грот-брамселя, когда, уложив под себя последний шлаг я вдруг обнаружил, что цепь у моего пояса болтается не закрепленная карабином. После этого случая думал больше не полезу на мачты, да не выдержал — лазил.
Пройдя пояс циклонов, мы достигли района Исландского барического максимума. Погода улучшилась. У берегов Исландии в День военно-морского флота устроили даже шлюпочные гонки, воспользовавшись спокойным морем.
От Исландии взяли курс на юг, затем — домой, сорока суточный поход завершался. Но накануне прихода в Балтийск случилась беда.
Объявили большую приборку. Мы — человек 15 — прибирались в своем кубрике. Кубрик был большой — от борта до другого борта, без переборок. Около сотни кроватей стояло. Было тепло, разделись до трусов и старательно протирали пыль, драили медь, мыли борта, скребли палубу. В обрезы воду наливали прямо из пожарной магистрали тут же в кубрике. При этом, конечно же, немало лили на палубу, и на легкой качке лужа свободно гуляла по всему кубрику. В одном из темных углов кто-то ножом соскабливал с деревянного настила высохшие бляшки краски — следы давней покраски. Работа нудная, и приборщик решил облегчить свой труд: выпросил у боцмана банку растворителя и начал смывать краску. Чтобы проверить — хорошо ли получается, зажег спичку. Пламя перекинулось на растворитель. Шарахнувшись в испуге, бедолага опрокинул банку. Горящий растворитель разлился по поверхности воды на падубе. Огонь мгновенно захватил четверть кубрика. Загорелись постели. Все заволокло черным дымом. В дымной мгле оранжево светилось место пожара, да мелькали огоньки живых факелов: пролитый растворитель достался не только виновнику случившегося. Люди с пламенем на голом теле выбегали наверх пытались броситься за борт, их ловили, сбивали огонь.
В первое время, не разобравшись, отчего пожар, мы пытались тушить его водой, от этого он распространялся еще шире. Наконец догадались использовать одеяла и вскоре с огнем справились. Пожар длился минут 10, весь остальной день до глубокой ночи мы отмывали кубрик от копоти. Пораженные были госпитализированы. Дольше всех — несколько месяцев — лечился от ожогов мой земляк и однокашник Саша Прокофьев.
Этот случай, как и подавляющее большинство других происшествий на флоте, проистекает от пренебрежения великим опытом добытым многими поколениями моряков, который зафиксирован в определенных правилах. Вопрос: зачем подвергать риску гибели себя и своих товарищей, чтобы лишний раз убедиться в их верности? — Нет ответа. Казалось бы, чего проще — исполни предписание Корабельного устава ВМФ: «… использовать керосин, бензин, спирт и другие огнеопасные материалы для протирания палуб, переборок и мебели запрещается» и не было бы несчастия. Ан нет от правил мы отмахиваемся, как от назойливой мухи, поступаем, как нашей левой ноге захочется, и попадаем впросак. Сев же в лужу, если не плачем, то проявляем неимоверное геройство, исправляя результаты своей лености и глупости. Беспечность, халатность, безответственность, словно проклятие, преследуют нас. Почему? Когда мы избавимся от них? — Есть ли ответ? Есть конечно. Может быть, к концу рассказа ответ немного прояснится, ведь в поисках его я собираюсь покопаться и в своих далеко не безгрешных поступках.
После штурманских походов для продолжения практики нас расписывали по боевым кораблям. Корабельным офицерам зачастую было не до нас и мы, в основном, занимались самостоятельно. Жилось вольготнее, чем на учебных судах. Однако, дублируя штатный личный состав, нам полагалось неукоснительно соблюдать распорядок дня, принимать участие во всех общекорабельных мероприятиях.
На первом курсе после похода на «Эмбе» я попал на новейший легкий крейсер «Свердлов» — гордость нашего флота, который незадолго перед тем совершил визит в Великобританию по случаю коронации Елизаветы II. На крейсере меня поражали чистота, порядок, четкая организация службы. По сигналу «Большой сбор» через 2 минуты полутора тысячный экипаж стоял в строю на верхней палубе. Такое же время выделялось для занятия боевых постов по боевой тревоге. Случись тревога ночью, моряки соскакивали с постелей, хватали одежду, бежали на пост и одевались там. Не дай бог замешкаешься — задраят двери и никуда до отбоя тревоги не попадешь. Не прибыл на боевой пост — ЧП, можно и в карцер загреметь.

Моряки крейсера «Свердлов» справа ст.м-с Беляков В.И
Крейсерский карцер — заведение примечательное. Расположен над самым котельным отделением, возле трубы. Я уж не знаю, какая там температура, но дверь, если в нем были арестованные, держали всегда приоткрытой — на короткой цепочке, и в дверной щели постоянно — днем и ночью — торчали носы «узников», жадно ловящих свежую струю морского воздуха.
Туда однажды и я чуть не загремел. Ребята откуда-то достали дореволюционного издания книжицу довольно фривольного содержания. В те годы строгой морали эта книжка вызвала у юношей «нездоровый интерес». Установили жесткий график чтения. На мою долю выпало время с обеда до 5 часов пополудни. Остро встал вопрос: где найти удобное и безопасное место для мероприятия, не предусмотренного суточным планом. Все укромные «шхеры» крейсера дежурной службе были известны. Но часто самое открытое место бывает самым незаметным, и я выбрал салинговую площадку грота. Забрался, сел, свесив ноги, и углубился в чтение. Час, другой пролетели благополучно. Далеко внизу ходили люди, но никому не было нужды задирать голову вверх. Когда занимательный сюжет романчика привел главных героев в самую рискованную ситуацию, я в очередной раз оглянулся окрест и заметил на спардеке фигуру руководителя практики капитана 2 ранта Синицкого. Он с явным наслаждением любовался тихим ясным днем ранней осени, тронутым первым золотом Петровским парком (крейсер стоял в Кронштадте у стенки Усть-Рогатки), штилевым морем. В это время покойную тишину расколол гул реактивного самолета. Капитан 2 ранга заинтересовался: где же самолет? Подняв голову, нашел на голубом небе белую полоску конденсационного следа и глазами стал сопровождать движущееся ее острие. На мою беду в какой-то момент глаз руководителя практики, я на салинге и самолет состворились. Произошло то, что неизбежно должно было произойти. Я был обнаружен и мановением руки приглашен вниз. Сошел и некстати бодро доложил:
— Курсант Балакирев по вашему приказанию прибыл.
Глаза капитана 2 ранга недобро сверкнули, а мои опустились долу. Он протянул руку за книгой и негромко, но так, словно хотел своими словами забить меня в палубу, заговорил:
- Читаете? В рабочее время читаете? На виду всей крепости устроились позорить славный крейсер.
Я молчал.
— В карцер! — он коротко рявкнул и круто повернулся, чтобы уходить. Я поплелся в кубрик. Там кроме дневального никого не было. Мне предстояло доложить о случившемся старшине класса, постричься под ноль в корабельной парикмахерской, сходить в лазарет за справкой о здоровье, сдать вещи на хранение, выписать у писаря записку об аресте, подписать записку у Синицкого и явиться к дежурному по кораблю, чтобы он распорядился посадить меня в карцер.
Я мешкал. Торопиться не было смысла. Кроме того не знал, какой срок отсидки назначен. Послонявшись по кубрику, пошел за сроком. Руководитель практики в своей каюте читал источник моих неприятностей, и этот источник, кажется, не был ему неприятен: я заметил, с его лица напрочь исчезли следы былой бури.
— Возьмите эту дрянь. Советую ее выбросить. Карцер заменяю строгим выговором. Завтра в 19 часов доложить мне уставные правила поведения личного состава на корабле.
Чтобы не сложилось впечатление, что такими как я Корабельный устав усваивался только через карцер, приведу еще пример.
«Свердлов» стоял на якоре на Большом Кронштадтском рейде. В кабельтовых четырех от него стоял крейсер « Лазарев», который только что начал ходовые испытания после постройки. После демонстрации кинофильмов в теплый воскресной вечер, люди на обоих крейсерах не спешили разойтись по кубрикам с верхней палубы. Разговаривали. Курили. Я заметил, как знакомый мне молодой матрос бросил за борт окурок. Тут же к нему подошел служащий по четвертому году службы комендор с нашей же носовой башни главного калибра.
— Ты разве не знаешь, что нельзя бросать окурки за борт? Вот же, обрез есть.
— Хе… смотри на «Лазареве» что делают. Думаешь, у них обреза нет? — молодой кивнул в сторону соседнего крейсера, с борта которого, словно искры ночного костра, непрерывно сыпались в воду огоньки выбрасываемых окурков.
— Салага ты, салага. Ты видел когда-нибудь, чтобы крестьянин осквернял пашню? Для моряка море — та же пашня. На «Лазарев» ты не кивай. Он только с виду — корабль. Настоящим кораблем будет года через два, когда собранные на нем люди станут э-ки-па-жем — отработанной командой. Понял?
После похода на «Свердлове» в составе небольшое группы моих товарищей я попал на сторожевой корабль «Леопард». В первый же выход сторожевика в море пригодились навыки курсантов в обращении со шлюпкой и парусами. Выход был связан с постановкой учебного минного заграждения. Поставить мины — пол дела, их ещё нужно поднять обратно на борт. Чтобы поднять мину спускают шлюпку, всплывшую мину ловят, стропят, поднимают краном, затем выбирают длинный минреп, который вечно запутывается и уже после этого поднимают тяжелый якорь мины — работа муторная, особенно и свежую погоду.
Шлюпку, понятное дело, укомплектовали командой из курсантов. До темна мы кружили возле всплывающих мин. К вечеру погода начала портиться, усилился ветер, пошел дождь. Когда подцепили последнюю мину и отошли от борта корабля, чтобы не мешать ему маневрировать при выборке минрепа, была уже ночь. Время шло, с выборкой что-то не ладилось, — ветер крепчал, волны уже захлестывали шлюпку. Как-то разом сторожевик удалился от нас, мы поняли, что он потерял из виду шлюпку. Луч его прожектора метался по волнам, пытаясь обнаружить пропажу, мы же не могли подать никакого сигнала, поскольку в надежде закончить работу засветло не взяли с собой ни ракет ни фонаря. Только тут в шлюпке вспомнили из Корабельного устава: «… отправляя шлюпку, вахтенный офицер корабля должен убедиться в наличии средств сигнализации и фонаря.» да, как водится, поздно вспомнили. Мы бешено гребли на огни корабля, но без толку — только из сил выбились. К тому же шлюпка стала наполняться водой. Воду вычерпывали черпаком и бескозырками. Оставив всякую попытку сблизиться с кораблем, все усилия свои направили на то, чтобы удержать шлюпку против волны и не дать ей затонуть. Нас нашли только к полуночи мокрых до нитки, укачавшихся, вконец обессиливших. Едва раздевшись, бухнулись спать. Но спать пришлось недолго — нас подняли по тревоге. Командир получил радиограмму с приказанием взять на буксир большой артиллерийский щит и привести в Балтийск, поскольку выделенный для этого буксировщик вследствие шторма с поставленной задачей не справлялся.
С принятым от буксира щитом тоже пришлось повозиться. Буксирный трос несколько раз обрывался, и командир решил спустить полотнища натянутые на мачты щита, чтобы уменьшить парусность. Эту задачу он поставил перед курсантами, посчитав нас опытными в работе с парусами. Щит подтянули к корме, и мы попрыгали на заливаемую водой его палубу. Спустили все полотнища кроме одного. Шкерт, которым крепился верхний угол, затянулся и один из моих друзей не смог его развязать. Он долго возился, устал и сошел вниз. Полез я. Страховочных поясов у нас не было, очевидно, большое количество поясов не предусматривалось табелем снабжения и, чтобы все были в равных условиях, не выдали никому. Обвил ногами мачту у самого топа и, орудуя руками и зубами, все же отвязал веревку. Но тут ветер с такой силой рванул освобожденный край полотнища, что ноги мои выпустили мачту и парусина заполоскалась вместе со мной над ночным бушующим морем. В таком положении долго удержаться я был не в силах и молил судьбу, чтобы она не стряхнула меня с высоты на палубу, а выкинула бы в море, где оставался шанс на спасение, судьба отнеслась ко мне милосерднее, чем я мог предположить: в какой-то момент полотнище пронесло рядом с соседней мачтой, и я успел зацепиться за скобу на ней.
После третьею курса практику проходили на подводных лодках. Меня и большинство ребят из нашего класса направили в Кронштадт. Я попал на лодку «С-154» 613 проекта. Обстановка на корабле пришлась мне по душе. Взаимоотношения в экипаже отличались дружелюбием и теплотой. Я навсегда полюбил подводников.
Служба на лодках, мне кажется, более сложна, чем на надводных кораблях. Подводная лодка, имея водоизмещение примерно одинаковое со сторожевым кораблем, насыщена таким количеством аппаратуры, устройств, систем и механизмов, что удивляешься, как все это умещается в таком небольшом объеме. Еще поразительнее, как можно содержать в чистоте и порядке такое количество сложного оборудования команде численностью в два раза меньшей, чем на сторожевике в условиях большой влажности, переменных температур, агрессивных газов и паров. Труд и только напряженный труд моряков по освоению и сбережению материальной части, обустройству быта позволяют поддерживать лодку в боеспособном состоянии, а жизнь экипажа делают сносной.
Здесь впервые я услыхал, как командир отсека, старшина срочной службы обращался к старпому за разрешением отправиться с людьми своего отсека работать на корабль в то время, когда остальная команда смотрела кинофильм, потому, что по его, старшины, мнению отсек на ночь остался не в должном порядке. И моряки по первому, второму, третьему, четвертому, пятому году службы безропотно вставали и шли работать.
Встречаются, конечно, человеческие экземпляры и на подводном флоте готовые за одобрительный взгляд начальника расшибить свой лоб, а тем паче – чужой. Но в этом случае речь не о таком человеке. В подтверждение привожу другой поступок того же старшины (жаль, забыл его фамилию, — кажется Якимец).
Незадолго до начала нашей практики на лодку прибыло молодое пополнение. На первом же выходе в море я заметил, как один из молодых матросов особенно сильно страдает морской болезнью. Лодку слегка покачивало, даже я не испытывал какого-либо дискомфорта, на этого же матроса (он был подчиненным Якимца) жалко было смотреть. Через несколько дней после возвращения в базу предстоял новый выход. Уже приготовили корабль к походу, уже на лодку пришел командир, капитан 2 ранга Емельянов и скомандовал: «По местам стоять, со швартовых сниматься», уже швартовая команда выбежала, и в ее составе свое место на носовой надстройке занял тот матрос, о котором идет разговор, уже убрали сходню и выбирали на борт последние швартовы, как названный матрос сиганул на пирс и умчался в сторону казарм.
— В чем дело, старпом? — гневно спросил командир.
— Не знаю, товарищ командир. Моря, наверно, испугался.
— По возвращении произвести дознание и подготовить материалы для отдачи под трибунал.
-Есть.
Вскоре о происшествии узнал весь экипаж. Вышли в море. Объявили боевую готовность № 2. Я заступил на вахту дублером вахтенного офицера. На мостик поднялся старшина 1 статьи Якимец:
— Разрешите обратиться, товарищ командир.
— Да, — буркнул Емельянов.
— Не отдавайте под суд матроса ( назвал фамилию). Он хороший, трудолюбивый матрос, но очень укачивается. Даже в базе, едва ступит на сходню лодки, травит. Не отдавайте под трибунал, прошу вас. Его нужно списать на берег.
-Хорошо, подумаю.
Матроса списали.
Воспоминания о первых своих знакомствах с подводниками невольно побуждают меня к некоторому обобщению: есть отважные люди способные в минуту опасности на героический поступок с риском для себя, они достойны восхищения, но куда большего почтения, по-моему, заслуживает человек совершающий незаметный, обыденный, ежедневный подвиг труда не за шумные восторги окружающих, не за деньги, не за чины, а потому, что он ответственен за доверенное ему дело, которое имеет значение в его жизни, в жизни его близких и его страны. Такими навсегда в моей памяти и моем сердце остались моряки подводных лодок.
Условия службы и быта подводников — особые, а подводная лодка — особый корабль. До начала 60-х годов подводники руководствовались особыми Правилами службы на подводных лодках (Потом правила были отменены и растворились в общем для всего флота Корабельном уставе).
Задумывается ли кто на надводном корабле, как ему дышать? — Дыши себе, как дышится. Душно — открой иллюминатор, нельзя открывать — включи вентилятор, надоел шум вентилятора — поднимись на палубу. У подводников — по-другому. Подводник должен дышать расчетливо. Он должен рассчитать, когда включить средства очистки воздуха, когда их выключить, как беречь силы, чтобы не зря тратить кислород. Погрузился, более или менее нормально дышишь час, другой, затем дыхательная смесь, состоящая в дополнение к воздуху из окислов углерода, азота, сернистого водорода, паров топлива и серной кислоты, прочих продуктов жизнедеятельности корабля и всего экипажа становится непригодной для дыхания, нужно включать регенеративные установки и фильтры.
Возьмем питание. На надводных кораблях к услугам продовольственников большой камбуз, пекарня бывает, холодильные камеры, емкие кладовые; не хочется в кладовую бегать — крепи бочки с солениями на верхней палубе, туда же складывай свежую капусту, картофель. Красиво оборудованы просторные кают-компании для офицеров, отдельно — для мичманов, устраиваются даже столовые для личного состава. На лодках по-другому. Электрический камбуз — двоим повернуться негде. В отсеках +50°С, на камбузе — больше. Помои некуда выплеснуть, или в ведре держи — дожидайся всплытия, или выталкивай воздухом через бункер за борт. Получил перед выходом в море куриные яйца — съедай в первые 3-4 дня, дольше не держи — выкинешь. Съел нормальные, круглые яйца — дальше питайся квадратными резиноподобными лепешками из яичного порошка, которые почему то называются омлетом. Свежие овощи неделю сохраняются, потом загнивают, не выбросишь — с лодки от вони сбежишь. Щи ешь с сухарями; кашу, компот — можно без сухарей. «Ну, что ты рыдаешь» — возразит надводник –«нет свежей свеклы — жуй сервелат, ешь шпроты, ветчину, говяжий язык, севрюжинку в красивых баночках, посолонуйся таранью, да маринованными огурчиками, помидорчиками, грибочками; на десерт скушай шоколадку, запей вином, пей чай с варением брусничным, инжирным, клубничным, зачем тебе зубы сухарем ломать, когда прекрасный мягкий хлеб на спирту в целлофановых пакетах сколько угодно можно получить».
Так то оно так. Но к концу месяца (месяц — ладно, бывает, что два и три месяца к берегу не подходишь) пища из баночек, скляночек не особенно-то в горло лезет даже с винцом. Да и вина то — кот наплакал, к тому же краснорожий продовольственник на береговой базе всячески убедит вместо вина взять сок, дескать, куда как полезнее. Что касается батонов, то в те годы, о которых разговор, никаких батонов в целлофане не выдавали, а когда стали снабжать, беда на лодки пришла. Ни в какие провизионки трехмесячный запас хлеба не поместишь, приходится в отсеки грузить. На вольных харчах на лодках особые подводные крысы завелись. Раньше бывало в ремонте поселится крыса, обыкновенная корабельная крыса, даже потомство выведет — ничего страшного: лодка закончит ремонт, начнет плавать, станут создавать вакуум при проверке корпуса на герметичность, крыса не выдерживает — погибает. В шестидесятых годах положение изменилось: появились те самые подводные мутанты, у них в ушах барабанные перепонки отсутствуют, дави воздухом или высасывай воздух, таким крысам все равно, живут припеваючи, целлофан рвут и батоны со спиртом жрут.
Подводник одевается, обувается, умывается, и, извините, гальюн посещает иначе чем любой другой человек. В наших широтах в надводном положении верхняя вахта почти круглый год одевается в овчинные куртки с капюшоном, в такие же меховые брюки, обувается в сапоги, в штормовую погоду помимо этого сверку гидрокомбинезон натягивается. Иначе нельзя, подводнику от ветра и волны укрытия нет, и волна лупит его спереди и сзади, снизу и сверху, и защита от нее у него только одеяние да штормовой пояс с цепью, пристегнутой к ограждению рубки. Другие члены команды носят стеганые ватники и шерстяное белье. В подводном положении, как правило, жарко и подводник старается одеться полегче, особенно в южных морях; там он носит разовое белье из реденькой, вроде марли, хлопчатобумажной ткани, а чаще всею лишь трусы и полотенце на шее. Каждую неделю нательное и постельное белье меняется на новое, а использованное переводится на ветошь.
Пресную воду подводник только пьет. Умывается по утрам и под душем моется забортной водой с шампунем «Садко». От соленой воды и пота его телеса становятся липкими, зудят, приходится ежедневно протираться спиртом, под бдительным приглядом доктора. Дабы сей предмет туалета не «ушел» не по назначению. Обыкновенный человек свободную минуту отдохновения от трудов и забот своих тратит, как правило, на безмятежное созерцание природы. Подводнику такая благодать, в отличие от большинства людей, скупо дозирована. В надводном положении допустили постоять около сигнальщика дополнительным наблюдателем или хотя бы довелось на несколько минут высунуть голову из ограждения рубки, считай, повезло парню — полюбовался на мир божий. На боевой службе такое любование ограничивается ночным пейзажем. Правда, окажись моряк в боевой рубке в дневное время при ходе лодки на перископной глубине, он непременно обратится к вахтенному офицеру:
— Товарищ лейтенант, разрешите одним глазом взглянуть на солнышко. И лейтенант, если у нею добрая душа, уступит место у окуляра, и отразит благодарный глаз надводное голубое сияние.
Моряк надводного корабля может сказать: зато, вернувшись из похода, подводник блаженствует на берегу — живет в просторной казарме, пуще того — в санатории отдыхает.
— Есть и казармы и санатории, но, во-первых, многие экипажи живут не на берегу, а в тех же корабельных кубриках на плавбазах, а, во-вторых, жилье на берегу — лишние заботы: постоянно требуется что-то починять, подчищать, убирать в казарме, подметать дороги, подрезать деревья, постригать кусты и газоны, рыть траншеи для кабельных линий, обновлять асфальт летом и убирать снег зимой окрест казармы; через день, два дня заступать в наряд на береговой камбуз, или в патруль, или что-нибудь караулить, почти ежедневно грузить-выгружать что-либо такое, с чем не справляются воины береговой службы.
Или возьмем техническую сторону подводного плавания, обязывает ли чему-нибудь человека на море запас плавучести судна, то есть тот воображаемый груз, который, если принять, отправит судно на дно? – Конечно, обязывает: чем меньше запас плавучести, тем тревожнее мореплавателю, и, наверно, тем внимательнее и строже он должен относиться к своим действиям. Подводная лодка, имея очень небольшую положительную плавучесть в надводном положении, под водой плавает с плавучестью близкой к нолю. Это обстоятельство накладывает на подводника, опять таки, особые обязанности и особую ответственность. Он должен быть исключительно заботлив касательно герметичности прочного корпуса, поддержания запаса воздуха высокого давления, исправности водоотливных средств, систем аварийного продувания, погружения и всплытия и устройства горизонтальных рулей, то есть систем и устройств, которые на надводных кораблях вообще отсутствуют. Обслуживание многих механизмов на подводных лодках значительно усложнено. Для примера сошлюсь на электроаккумуляторы. На надводном корабле далеко не все даже знают где они расположены, и кто их обслуживает. На лодке же аккумуляторная батарея — предмет пристального внимания командира корабля, инженер-механиков, вахтенных офицеров, электриков и всего экипажа. Вовремя не провентилировал батарею, не сжег в специальных печках, выделяемый ею водород, допустил концентрацию этого опасного газа свыше 4% — жди взрыва и пожара. Своевременно не произвел зарядку аккумуляторов — под водой делать нечего. Есть хорошее русское слово — уход, ухаживать. Говорят: он ухаживает (за кем-то, за чем-то), как за невестой. На кораблях невест нет, на кораблях ухаживают за механизмами. В суточный план или в распорядок дня так и записывают: с такого-то по такое-то время — уход за механизмами. На подводных лодках пуще всего ухаживают за аккумуляторной батареей, тщательно следят, чтобы в нее не попала пыль, грязь или, боже упаси, соленая вода. Батарею протирают этиловым спиртом-ректификатом, смазывают вазелином соединительные шины, болты. Несколько раз на дню замеряют сопротивление изоляции, напряжение, плотность электролита, бдительно контролируют газовыделение.
Этими строчками, дорогой читатель, я меньше всею хотел разжалобить тебя, выжать слезу сострадания по отношению к подводникам. Сами подводники к сложностям, невзгодам, опасностям своей службы относятся спокойно и, как подобает мужчинам, внутренне гордятся своей способностью их преодолевать и, наверное, лишь были бы непрочь знать, что их сограждане признательны им за службу.
В экипаже дружном, с налаженной службой, налаженной не нажимом, понуканием и окриком, а, скорее, многолетними традициями, служебный процесс проистекает как бы сам по себе. Именно так шли дела на «С-154».
На берегу офицерскому составу работы не меньше чем в море: подготовка к зачетам, составление отчетов по проведенным учениям и боевым упражнениям, тренировки, семинары, собрания и совещания, планирование боевой подготовки и подготовка к новому выходу в море, несение дежурной и караульной службы в соединении и гарнизоне. Повседневными делами в команде в основном занимались дежурная служба, строевой старшина и боцман. На последнего замыкалась шкиперская и вещевая службы, обеспечение баней и прачечной, в экипаже он считался, если не отцом родным, то дядькой. Дежурными по кораблю службу несли старшины команд. Продуктами занимался фельдшер.
Отношения между членами экипажа были весьма благожелательные, особо опекались молодые матросы. Каждому вновь прибывшему на корабль выдавался обширный перечень тем для подготовки по специальности, к борьбе за живучесть корабля, защите от оружия массового поражения, несению дежурно-вахтенной службы и т.д. Новичку во всем разобраться, все изучить тяжело, но еще тяжелее привыкнуть к новым людям, новым порядкам, новому быту. И на лодке я видел стремление старших к тому, чтобы новичок, ошарашенный обилием корабельной техники, незнакомыми и непонятными действиями окружающих, тяготами подводной службы, грузом новизны, не почувствовал себя изгоем в команде. По вечерам до поздней ночи опытные старшины и матросы оставались на лодке, объясняли молодежи премудрости подводного дела. Мне запомнились импровизированные соревнования в знании устройства корабля, которые проводились в свободное время в море. Устраивались и официальные состязания на лучшего специалиста соединения. В то время никакого регламентированного приказами и инструкциями соцсоревнования с планами, отчетами и учетами не существовало, но фактическая, очень нужная в молодежной среде, состязательность была.
Увлекающихся пустословием, никчемной бравадой, показной мишурой, того пуще, любителей на чужом горбу въехать в рай «сачков», подводники быстро раскусывали и в грош не ставили, поэтому, появившись, они терялись и скоро исчезали. К счастью, эта традиция в среде подводников во многом сохранилась до нынешнего времени. Почему говорю: во многом? Да потому, что и она теперь искажена, невесть откуда взявшейся «годковщиной».
Перебирая в памяти те годы, не могу припомнить случая кражи на подводных лодках, попытки поживиться за чужой счет. Продукты на кораблях всегда были в излишке, размещались в отсеках. Отправляясь в отпуск, моряк заходил к корабельному фельдшеру, тот снабжал отпускника хорошим пайком на дорогу, не забывал вручить и достойный гостинец его родным. Сложившиеся устои, отношения братства противились возникновению эгоизма.
Петр Денисович Грищенко рассказывал, что за все годы его командования подводной лодкой «Л-3» был один единственный случай воровства в военную пору. Один из матросов, фамилию которого он не называл, вскрыл металлический бачок с аварийным запасом провизии и забрал несколько плиток шоколада. Никаких собраний общественности с обсуждением проступка или наказания провинившегося по линии командования не последовало. Моряки приходили и бросали в ноги злоумышленнику, как собаке, свои пайковые порции шоколада, и тот плакал.
Подводные лодки в Кронштадте базировались, как и в минувшую войну, на Купеческую гавань. Сохранились казармы, здания береговых служб военных лет, даже сохранилась курилка возле пирса в старом виде, только топольки, посаженные позади скамеек, подросли. Здесь, в курилке, перед боевым походом сидели, беседовали, проводили короткие митинги, фотографировались на память подводники.
Из Купеческой гавани выходили и сюда возвращались лодки И.В. Травкина, П.Д. Грищенко, И.С. Кабо, А.М. Матиясевича, других славных балтийцев; отсюда ушли и навеки остались в морских глубинах П.П. Маланченко, Е.Я. Осипов, Н.И. Мохов, Я.П. Афанасьев, А.И. Мыльников и, к нашей скорби, ряд других командиров со своими кораблями и экипажами.
Здесь, в Кронштадте, сильнее чем в ином месте ощущается связь поколений, причастных к судьбам нашего флота.
В парке на берегу Финского залива стоит бронзовый Петр Великий – основатель морской крепости и Российского военного флота, перед его взором от Ленинградских судостроительных заводов проходят дальше в моря и океаны новые крейсеры, эскадренные миноносцы, невиданные подводные лодки – пра-, пра-, правнуки потаенного судна Ефима Никонова – современника Петра. Здесь же в Средней гавани напротив памятника во время нашей практики доживал свой век в качестве плавучего склада его стальной тезка – броненосец «Петр Великий», первый русский броненосец.
Отсюда 26 июля 1803 года в первое в истории Российского флота кругосветное плавание вышли шлюпы «Надежда» и «Нева», которыми командовали И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Здесь же в Кронштадте, при мне в ремонте стоял барк «Крузенштерн». На якорной площади в бронзе вице-адмирал Макаров, а спроектированный адмиралом ледокол «Ермак» продолжал ледовую службу в полярных морях.
Ещё в строю был построенный до революции дредноут — линкор «Октябрьская революция», у стенки стоял другой линкор – «Марат», вернее то, что от него осталось после взрыва в носовом артиллерийском погребе боезапаса который сдетонировал от попадания бомбы при налете немецкой авиации 23 сентября 1941 года.
Поистине каждый камень крепости дышит историей: Морской завод, Арсенал, Морской Андреевский собор, форты …. Как ни странно, о Кронштадте у меня сложилось впечатление ещё в раннем детстве по рассказам моей бабушки Марии Ивановны, которая в давние годы работала в Петербурге и оттуда ездила на проповеди знаменитого наставника Морского собора Иоанна Кронштадтского. О Кронштадте революционной поры много рассказывал наш деревенский сосед Михаил Кузьмич Кольцов, там он служил в крепостном пехотном полку и принимал участие в революционных событиях.
Вернемся из курсантских походов в училище. Курсанты практиковались на разных флотах и соединениях. Встретившись после практики в стенах училища, мы делились друг с другом увиденным и услышанным на кораблях. В такие дни училище напоминало возбужденный улей. Не случайно мудрый Козьма Прутков среди приятнейших человеческих занятий на первое место поставил беседу с другом, вернувшимся из дальнего похода, отодвинув на последующие места такие удовольствия, как потребление вкусной пищи и почесывание тех мест, которые чешутся.
Долго ли, коротко ли, а мы втягивались в нормальное русло академической учебы. Лекции, самостоятельные занятия, практические занятия, семинары зачеты — все как у нормальных учащихся. В Великобритании курсантов военно-морских учебных заведений называют navel student то есть военно-морской студент. Быть может английские курсанты от обыкновенных студентов не слишком отличаются, но наша жизнь, несмотря на сходство учебного процесса, по-моему, мало чем напоминала студенческую. За исключением коротких увольнений в город — только мужская компания; жёсткий распорядок дня, жёсткий спрос за дисциплину; гарантированное обеспечение хлебом, одеждой, кровом и даже зрелищем — отличительные признаки бытия «военного студента».
Подъём, физзарядка, приборка, утренний осмотр внешнего вида, переход строем в учебный корпус, классные занятия, обед (по субботам приём пищи — так по-военному называется это приятное мероприятие – происходил под аккомпанемент училищного духового оркестра), возвращение в казарму для короткого дневного сна, после сна снова лекции, затем — самостоятельная подготовка, ужин, после ужина снова с песнями строй идет в казарму, там снова приборка, потом часа два личного времени, затем вечерняя справка, вечерняя прогулка, отбой. Таковы опорные пункты курсантского распорядка дня.

Курсанты Б.Немилов, А.Прохоров, Н.Балакирев
Прохудились ботинки в результате бесконечных переходов по булыжным мостовым из спального помещения в учебный корпус и довольно частых строевых занятий — сдай баталеру, получи отремонтированные. Потел ли в учебе или без пота обошелся, раз в неделю тебе предложат баню. Попарился, намылся — сдавай грязное бельё, получай чистое. Каждый месяц получай деньги на приобретение зубной щётки, пасты, одеколона, билета в театр, на танцы, каток. Из текущих расходов можно даже на пиво выкроить.
Пиво пить в первые годы моей службы не возбранялась, водку же — ни-ни, из училища выгонят, разумеется, если начальство дознается. С приходом к руководству Вооруженными Силами сурового маршала Жукова и пиво попало под запрет. Нужно заметить, при нем комендантская служба усердствовала зачастую без меры. Вернувшиеся с учебной практики из Лиепаи наши товарищи рассказывали, что там запросто можно загреметь на гауптвахту даже за ненароком выбившуюся из полы шинели нитку сантиметра три длиной. В некоторых гарнизонах комендант спускал патрульному наряду план: за время патрулирования задержать не менее трех нарушителей дисциплины. Навряд ли маршал надоумил службу порядка такого рода планированием, тем не менее, такое было. Ходит патруль все воскресенье в поисках нарушителей и не может их найти, потому как всякий матрос, увидев группу людей с красными нарукавными повязками, к ним не побежит, загодя свернет в сторону. Дежурство подходит к концу, а задержанных нет. Но вот удача: выскочил из переулка служивый и попал прямо в руки патрульным. Тут и нитка сгодится, как свидетельство вопиющей недисциплинированности, иначе сам сядешь в камеру за невыполнение плана.
Вот так. Что уж тут говорить о водке? 0 ней, о злодейке думать запрещалось… запрещалось лицам срочной службы и курсантам. В буфетах и ресторанах домов офицеров и военных санаториев набор имелся полный — пожалуйста. Тольке в 70-е годы запретили спиртному появляться в любом виде и в любом военном учреждении. Ну что ж запрет так запрет для всех. Всё правильно. Но именно в эти годы спиртное полилось рекой на неофициальных пикничках для членов всевозможных комиссий и на полуофициальных торжествах – «по поводу»….
Бывало приезжий начальник, после многочасового заслушивания докладов местных начальников о состоянии воинской дисциплины, в которых особым разделом выделена борьба с пьянством, досконально вникнув в причины пьянства и его последствия, произнесет гневную речь с требованием выявить, решить, укрепить, ужесточить, наказать, разжаловать, снять, после всего этого утомлённый в сопровождении ещё более утомлённых докладчиков едет в укромную баньку — снять душевную и физическую усталость, смыть трудовой пот. После парилки кто-либо из присутствующих выскажет, не совсем свежую, но очень уж подходящую к указанным обстоятельствам мысль: год не пей, два не вей, а после бани сам бог … Самый высокопоставленный делает вид, что не слышит произнесённых при общем безмолвии слов. Тогда благую эстафету подхватывает закоперщик банного мероприятия и призывает себе в помощь тень великого Суворова.
Суворов де после каждого парного сеанса требовал от денщика Прошки лафитничек анисовой, а количество таких сеансов генералиссимус доводил до семи. После ссылки на такой авторитет кто же устоит? А утром начальник с красными глазами и звонам в ушах продолжал борьбу с пьянством.
Случался и другой вариант: самый высокий чин из комиссии, который уже достаточно «выпарен» службой, ускользнёт от банных тенет, тогда берутся за того, кто пишет акт проверки и размягчают его вениками да чарками до восковой податливости. Всё хорошо, когда хорошо кончается, но какое же разочарование, бывало, наступит, когда на разборе результатов инспекции гостеприимные проверяемые услышат из акта: то-то и то-то является следствием вопиющей безответственности того самого «банщика», который так обхаживал секретаря комиссии. Что обижаться, дорогие товарищи, ведь секретарь — тоже человек, и ему хочется не только париться во время наездов «на места», но и «белый хлеб с маслом кушать» повседневно!
В годы перестройки змия ещё раз хрястнули по башке, да так, что, по расчётам, ему должен был наступить каюк. Запретили продажу пиво-вино-водочных изделий не только в лечебных, учебных, увеселительных заведениях, а везде, где обитают военные и их домочадцы. И с новой энергией пошли собрания, совещания всё с теми же — запретить, ужесточить.
- Братцы, — крикнет иной, — может быть прекратим эту «борьбу», а высвободившуюся энергию переключим на повышение общей образованности и культуры, глядишь, надобность кривить душой исчезнет и «запретный плод» без запрета свою прелесть потеряет.
- И то верно, — скажет другой, — в увольнении увидит малец «наливное яблочко», а укусить не моги — патруль быстро тебя цап-царап и в каталажку. Не моги, а хочется. Вот и возможность представилась: нет ни патруля, ни сурового ока начальника, око собственной совести тоже на сей случай зажмурилось, поелику малец раньше наблюдал, как его родитель и вообще его окружение хлестали водочку беспричинно и без зазрения совести, да и потом — на службе — он разок, другой замечал старших товарищей не то что пьяными, а … под шофе. Возможность представилась и дорвался сердешный, да так, что аж до жвака-галса.
Примеров тому – пруд пруди. Как – то пошел мой сослуживец с командой за какой – то надобностью в лес недалеко от поселка Веселый Яр, что в Приморском крае. Два самых усердных матроса выполнили свое задание и в ожидании остальных решили прогуляться по лесной тропинке. Ушли и пропали – в установленное время в условленное место не вернулись. Начали искать и очень быстро нашли на той же тропе мертвецки пьяными. На другой день начальник, убедившись, что провинившиеся подчиненные способны воспринимать человеческую речь и отвечать членораздельно на вопросы, начал расспрашивать их: что да как, с тем, чтобы примерно наказать. И те поведали, что тропинка привела их в Веселый Яр, прямо к магазину. Там они купили, затем вдвоем распили бутылку тминной, бутылку чебрецовой, и бутылку померанцевой (указанные настойки по крепости равные обыкновенной водке, тогда водились едва ли не в каждом сельском магазине). Начальник удивился такому аппетиту своих подопечных и спрашивает:
- Чем же закусывали?
- На закуску, — отвечают, — мы взяли бутылку шампанского.
«Если уж нет средства от пьянства, то должно напиваться в месяц три раза. Если один раз, еще лучше. Если совсем не пить, что может быть почетнее? Однако где же мы найдем такое существо?! Но когда бы нашли такое существо, то оно достойно всякого почтения» — размышлял великий Чингиз-Хан, и суждение свое приказал внести в «Ясы».
Читатель, чувствуешь тревогу, даже отчаяние в словах великого завоевателя? Почти восемь веков прошло после смерти Чингиз-Хана, а опасность последствий прозаического явления человеческого бытия – пьянства, продолжает тревожить ответственных людей, начиная от отца семейства и кончая отцом нации, хотя в разной степени и в разной форме. Естественно, что называемая проблема волнует и отцов – командиров. И то же по-разному. Если командир и его помощники ленивы и пронырливы, они в борьбе с Бахусом используют тотальный противоалкогольный надзор, гарнизонную гауптвахту, общественный разнос оступившимся и высоко вывешивают лозунг «Пусть земля горит под ногами пьяниц», все это, сопровождая великим шумом, в надежде, что шум в высоких инстанциях будет услышан, а там отмечен: ах, как они усердны и непримиримы. В скобках следует заметить, шум поднимается не всегда, а только в тех случаях, когда известие о проступке уже дошло до начальства.
Если же командир не лежебока и наделен чувством ответственности за порученное дело, он так же прибегнет к означенным «мерам воздействия» (в умеренных дозах), но, кроме того, предложит своим подопечным такие виды занятий, на которые являться в подпитии постыдно. При их проведении не ведется «борьба с пьянством», а происходит процесс общего положительного воспитания.
Я думаю, наше училищное начальство относилось ко второму типу командиров и подвигало нас, курсантов, на добрый путь.
Одной из форм воспитания в училище было поголовное вовлечение всех, даже таких нелюдимых, как я, в общественную работу — партийную, комсомольскую, спортивную, художественную, научную, сюда же можно причислить и назначение курсантов старших курсов командирами отделений к младшим.
Помнится, в средней школе я состоял в комсомольском бюро, где имел поручение курировать стенную печать. Особого усердия в исполнении поручения не проявлял, но все же стенгазета изредка выходила, кроме того, кое-какие статьи вырезал из периодических изданий и вывешивал в коридоре — тоже ведь работа. Но вот подошло время отчитываться членам бюро. Вытащили и меня перед собранием. Минут 5, длившиеся вечностью, я торчал перед товарищами и не смог выдавить из себя ни слова. Спасибо учительнице Елизавете Георгиевне Калашниковой, которая предложила: пусть посидит, соберется с мыслями, мы его потом послушаем. Я сел, однако мыслей не собрал: их не было.

Начальник политотдела училища
После такого опыта участия в комсомольской работе я панически боялся любой общественной нагрузки. Но обреченного на несчастия беда всегда найдет. В первый же год учебы в училище, как уже сказано, меня выбрали секретарем комсомольской организации класса, которая входила в первичную организацию всего курса. Там комсоргом был мой одноклассник Борис Николаев. Не знаю, как вышестоящие союзные и партийные органы его опекали, но меня особым вниманием они не докучали. Правда, иногда приходил помощник начальника политотдела старший лейтенант Королихин, человек тихий, деликатный, спрашивал что да как у меня получается и не требуется ли какая помощь. Посторонней помощи я в молодые годы боялся больше своей беспомощности и нес свой крест общественной работы, как сам разумел. А разумел я так: вы назначили меня секретарем вопреки моему желанию, я буду вести линию вопреки вашему мнению и вашим привычкам.
Комсомольский устав требовал созывать собрания не реже одного раза в месяц. С собрания я и начал. А тему обсуждения наметил самую щекотливую. Подхожу к старшине класса Коле Буйлову.
— Собрание, — говорю, — нужно провести, выступи с докладом.
— По какому вопросу?
— О буги-вуги.
— Ты что, очумел? О каком буги-вуги?
— Многие из наших очень уж джазом увлекаются, — говорю, — мне это не нравится.
— Тебе не нравится, ты и выступай.
И я выступил … об «извращенных вкусах» комсомольцев. Распушил любителей безыдейной закордонной песни и джаза, с жаром убеждая, что русская «Эй ухнем…», то есть «Дубинушка» куда лучше, актуальнее и роднее для нас модной американской «Ах Сан-Луи, Лос-Анжелос», которая не сходит с уст наших певунов. Попал в самую точку. В то время джазовую музыку официально не жаловали у нас. А какой молодой человек не фрондирует с официальным мнением. Речь моя напоролась на штыки: ужо мы тебя волчья сыть, травяной мешок, деревенщина! Кого и чему учить вздумал?! Кто-то, атакуя меня, даже вспомнил ленинское замечание об инородцах-революционерах, которые в русских делах считают себя более русскими, чем сами русские. Но комсоргом меня оставили.
Тогда я затеял новую каверзу — кампанию за высокую эффективность самостоятельной подготовки одноклассников. Известно, если собрать в одном помещении несколько учащихся и оставить их без должного контроля, они непременно найдут способ облегчить бремя учебы — два, три человека выполнят задание, остальные скопируют их работу. Мои товарищи тоже не пренебрегали такой возможностью скрасить свою жизнь. Я стал выговаривать им, что негоже комсомольцам шагать по дорожке сачков, что на этом пути профессиональных высот мы не достигнем, лишь навлечем на себя и на флот позор.
К моему удивлению никакого взрыва негодования не произошло. Очень немногие возразили, дескать, нагрузки чрезмерно велики и таким способом все курсанты из положения выходят, сохраняя здоровье во благо того же родного флота. А наш единственный коммунист Коля Пчелкин, старшина класса и еще несколько человек поддержали меня. И действительно, с первого курса у нас в классе сложилась традиция — трудиться всем наравне, помогать друг другу разъяснением, а нe предоставлением услуг по списыванию. Может быть эта традиция помогла нашему классу удерживаться все годы в передовиках по учебе.
Когда практиковались на сторожевом корабле, мои товарищи были приятно поражены и тихо радовались, что замполит корабля забыл поручить нам проведение политинформаций с моряками. Я пошел к политработнику, говорю: «Курсанты хотели бы попрактиковаться в выступлениях перед личным составом на политические темы, будущим офицерам это будет полезно». Заместитель командира с великой радостью откликнулся на мою просьбу и порядком загрузил политинформациями и прочим. Ох, и шумели на меня будущие офицеры: куда ты лезешь, кто тебя просил.
В таком духе я и вез свою тележку общественной нагрузки. На собраниях никогда не начинал милого сердцу служивого разговора о нелегкой доле, не жалобил ни себя, ни других об очевидных тяготах, ругался да ругался, а меня из года в год выбирали да выбирали, – нашли оппозиционера.
Остановлюсь еще на одном пункте из курсантской жизни: личное время… Слова — личное время — нужно бы взять в кавычки, поскольку так обозначенный в распорядке дня отрезок времени не всегда был личным, по крайней мере, не для всех личным временем. Одно дело, когда у человека хобби завелось, скажем, на песню, на гитару, или на матросский танец «Яблочко». Такой человек на репетиции художественной самодеятельности идет действительно самостоятельно без понуканий. Но концерт, кроме всего прочего, еще и — соревнование кто лучше и больше. Лучшего трудно добиться, а количества — пожалуйста. Организуй так, чтобы вся сцена была плотно заставлена шпалерами певцов, если уж не поющих, то хотя бы широко разевающих рты в такт взмахам дирижерской руки, и дополнительные баллы тебе обеспечены. Посему в хор записывали поголовно, или почти поголовно, всех (соревнование есть соревнование, оно без перегибoв не бывает), разве что выдающиеся спортсмены, вечно загруженные тренировками, могли уклониться от хора. Одной из моих обязанностей по комсомольской линии была обеспечить стопроцентное посещение хористами репетиций. Это не всегда получалось, и тогда на помощь приходил командир роты или даже сам В.И.Ляш.
— Товарищ курсант! — останавливал Ляш пытавшегося улизнуть с глаз долой подчиненного, — почему не в хоре?
— Так я же не пою, товарищ капитан 2 ранга.
— Прикажу, и запоешь! — шутил Василий Иосифович.
В отличии от хора, выставить достойную команду на училищные cnopтивные состязания, не составляло большою труда. Рейнгольд Петров, Вася Егоров, Витя Крюков даже в Ленинград на соревнования ездили. Затруднения были только с боксом, почему-то наши пай-мальчики не желали рисковать своими носами. Пришлось мне самому (комсорг ведь) стать грудою за честь класса, хотя боксерских перчаток я раньше в руках не держал. В героях (вынужденных) мне не долго довелось ходить, в первых же боях был нещадно избит. Но на этом не успокоился и вступил в секцию бокса. Только напрасно — на одной из тренировок голова моего друга- соперника неосторожно просунулась в стремительно сокращающийся промежуток между моей правой перчаткой и стеной, возле которой нам было выделено место для упражнений, друг-соперник рухнул на пол. Тут же тренер выгнал меня из секции.

Курсанты В.Егоров (слева) и В.Крюков
Изгнанный из бокса, я пристрастился к шлюпке. Собралась дружная команда. В свободное время мы уходили на Даугаву, ставили парус и гоняли по широким плесам, врезались в узкие протоки, да так ловко, что порой под гиком шуршал камыш.
«То было клиперов время, блестящие были дела,
Но в Макассарском проливе Мэри моя умерла».
Под белым парусом на водной сини в окружении густой зелени, казавшейся зарослью мангры, разве не вспомнишь Киплинга, пусть ты находишься не на чайном клипере и не в Макассарском проливе, а Мэри твоя жива и здорова и готова скакать с тобой весь вечер в «железке». Правда, должен признаться, в «железку» я не ходил, потому что не умел танцевать, и Мэри у меня не было, но от увольнения в город не отказывался.
Если не был занят службой, каждое воскресное утро, как и другие курсанты, загонял фанерную «торпеду» в солпы брюк, парил – сотворял флотский клеш; на вытравленном хлоркой «гюйсе» под морского волка наводил стрелки неимоверной остроты; брился, чистился, мылся, стирался, … готовился к увольнению. В назначенное время становился в строй увольняемых. Затем приходил командир роты. Он снова придирчиво проверял, не увеличен ли сверх положенного белый кант на бескозырке, не обрезан ли околыш, не сужены ли суконка и бушлат, отшлифована ли пряжка на поясном ремне, не ушита ли верхняя часть брюк и не расширена ли непомерно нижняя часть, достаточен ли блеск ботинок … После осмотра некоторые в удручении шли в кровать – отдыхать, отпущенные же на волю, быстро рассеивались за воротами училища, каждый по своему плану.
Я, елико возможно, в выходные дни, старался уменьшить свою культурную запущенность. За 4 года в Риге мне довелось посетить все новые оперные и балетные постановки. В Опере тогда с большим успехом выступали местные Эльвира Пакуль и Дашков, а также многие заезжие знаменитости из Москвы, Ленинграда, Таллинна. Часто бывал в Театре музкомедии, где пела любимица рижской молодежи Тамгорова. Иногда посещал концертный зал филармонии. Любил Художественный музей.
В училище свой клуб неплохо работал. Там разные мероприятия проводились. Мне особенно нравились клубные лекции-концерты, с которыми выступал пропагандист политотдела (забыл его фамилию) совместно с духовым оркестром. И самодеятельные концерты неплохо получались. Удивительно хорошо русские народные песни и романсы исполнял помощник командира нашей роты лейтенант Котельников. В праздничные дни в этих концертах принимали участие артисты оперы, и чаще других Э.Пакуль. В клубе чуть ли не каждую неделю устраивались танцевальные вечера. Я не танцевал, и заходить туда избегал, но знаю, что тогда были в моде, кроме танго и фокстрота, вальс, чардаш, полька-бабочка, па-де-катр, па-де-грас. Названия некоторых бальных танцев я знал: на первом курсе в более-менее добровольном порядке нас водили в клуб МВД обучать танцевальному искусству. В зале мы выстраивались в разряженную шеренгу с интервалом друг от друга в 2- 3 шага. Напротив нас в том же порядке расстанавливалась шеренга синеньких девочек 15-16-ти лет в легких одеяниях. Взяв девочку за ручку, требовалось копировать движения демонстрируемые сухопарой женщиной с жилистыми ногами и ее партнером — начинающим полнеть и лысеть мужиком. Так случалось, что на каждом занятии в качестве моей партнерши оказывалась одна и та же маленькая, худенькая и, по-видимому, ненавидевшая меня особа. Она все время смотрела в пустоту, но стоило мне ошибиться в движении, одаривала меня таким разящим взглядом, что хоть беги. И я сбежал…, не выдержав ни этой особы, ни учительской пары, ни, поминутно прерываемого учителями для разъяснении наших ошибок, барабанного боя клубного рояля, ни самих названий танцев. И… был, конечно, дурак, но что об этом говорить теперь.
Дорогой читатель, боюсь, как бы у тебя на основе вышеизложенного не сложилось превратное впечатление о нашем классе, как образцово-показательном, где все двадцать человек учатся, все отлично дисциплинированы, а выпадает свободная минутка, поголовно все танцуют польку-бабочку, или бегут в оперу, или сражаются на спортивных ристалищах. Не думай так хорошо о нас. Мы ведь иногда шалили. Конечно такого, можно сказать, хулиганства, какое отчебучили, к примеру, в Каспийском училище, мы не допускали, но все же…. Ведь там что учудили? — В складчину купили, как мне рассказывал тамошний приятель, один пуд конфет и на этот ворох конфет наняли сладкоежку из своей же среды для свершения коллективно задуманного хулиганского предприятия.
В один из вечеров сладкоежка углем и мелом разрисовал свою рожу под собачью морду, разделся до трусов и тельняшки, стал на четвереньки и в соответствии с контрактом поскакал к дежурному по училищу, чтобы облаять его. Благополучно проскакал по коридорам, пугая случайных прохожих, по вестибюлю мимо часового у знамени, который даже ухом не повел, не усмотрев угрозу охраняемому объекту со стороны «собаки» и ворвался в рубку дежурного. Дежурный, почтенный капитан 1 ранга в летах, сидел на кушетке, читал газету. Сладкоежка запрыгнул на служебный стол, смахнул на пол телефон и бумаги и начал лаять на официальное лицо. Дежурный от неожиданности и наглости пришельца даже за пистолет не догадался схватиться, он отпрянул к стене и беззвучно разевал рот, подобно рыбе, выброшенной на берег. Произнеся обусловленные десять «Гав!», «собака» соскочила со стола и тем же манером, каким шла на операцию, умчалась вон. Придя в себя, дежурный сыграл всем курсантам училища «Общий сбор», но злоумышленника найти не удалось.
Не-е-е-е-ет! У нас так не забавлялись, разве можно сравнить рассказанное, например, вот с такой шуточкой из нашего бытия.
На «Седове» бак из 12 человек, в котором состоял и я, тоже вошел в договорные отношения с Леней Ильчиком. Леня терпеть не мог любую кашу, но обожал сушки с чаем. Сделку он предложил сам: если за один присест съест полную кастрюлю сушек и выпьет целый чайник чая, то есть продукты предназначенные на вечерний чай всему баку, то он, Леня, в течение месяца ежевечерне будет лакомиться сушками и сладким чайком сколько ему захочется, остальные же 11 человек должны довольствоваться тем, что после него останется, если же он условие не выполнит и оставит хотя бы один бублик, хотя бы один глоток чая, то лишится на целый месяц доступа к вечернему столу, а в обеды не имеет права отказываться от каш.
Огромный кубрик погрузился в тишину, узнав в чем дело, люди со всего кубрика собрались вокруг нашего стола, за которым трудился Ильчик — ждали развязки. По мере убывания продуктов на столе, присутствующих все больше охватывало волнение. Но все обошлось хорошо для большинства бака. Когда на дне кастрюли остались две последние сушки, а из чайника были вылиты в кружку остатки чая, Леня как-то боком тяжело сполз с банки и, волоча живот, уполз на верхнюю палубу — там располагался гальюн.
1956 год. Обучение закончилось. Перед выпуском — наш выпуск был третьим — предстояла стажировка на подводных лодках. Обычно стажировка длилась 2 месяца, но, несмотря на быстрый рост флота, произошло перепроизводство офицеров-подводников и стажировку нам продлили до полугода. Более того, после государственных экзаменов каждого десятого выпускника уволили в запас, в их число попал и мой друг Толя Белинский. Мне предстояло отправляться на Черноморский флот, он оставался в училище — оформлять документы на увольнение. Последний раз пошли вместе в город. Много говорили о прошлом, еще больше о будущем. Насколько я понял, Толя не унывал, у него были светлые планы на дальнейшую жизнь, а мне было горько расставаться.
На стажировку я попал в бригаду подводных лодок, базирующуюся на Севастополь. Город на меня произвел такое же сильное впечатление, как и Кронштадт в свое время. Корабельная сторона, Малахов кypган, Панорама обороны Севастополя, Константиновский равелин, памятники кораблям, знаменитым флотоводцам и героическим матросам, Морской собор, пушки — участники событий 1854 года и танк «Т-34» на сопке у железнодорожного вокзала — везде дыхание истории, везде свидетельства воинской славы и… трагедии. Ужасная трагедия с гибелью сотен моряков произошла незадолго до нашего приезда — в Северной бухте сильным взрывом был поврежден и затем затонул линкор «Новороссийск».
Колю Базуткина — моего однокашника с минно-торпедного факультета и меня назначили на подводную лодку капитана 2 ранга Богачева (думал ли я тогда, что пройдет всею три года и Коля в Полярном погибнет на подводной лодке, когда на ней взорвались стеллажные торпеды).
Лодка завершала ремонт на заводе имени Орджоникидзе и скоро ей предстояло отрабатывать полный курс боевой подготовки. Корабельным офицерам всевозможной работы хватало через край. Чтобы их как-то разгрузить мы с Колей быстро сдали зачеты на допуск к дежурству по кораблю и эту надоедливую служебную ношу взяли на себя.
Осенью в связи с событиями в Венгрии обострилась международная обстановка и командование потребовало ускоренно ввести в строй лодку. Начались ежедневные выходы в море. Младшего штурмана отправили в командировку, и я стал исполнять его обязанности — получал в Гидрографии навигационные приборы и пособия, корректировал карты, в море нес штурманскую вахту — вплотную включился в повседневную жизнь корабля.
Пятидесятые годы были переломными годами в жизни флота. Как уже говорилось, менялись взгляды на строительство, организацию, боевую подготовку и боевое использование сил BМФ. Происходила смена поколений военных моряков. Процесс перемен шел медленно, во многом противоречиво. На корабли пришли молодые люди не испытавшие смертельной опасности боевых походов, не прочувствовавшие глубоко жизненную необходимость досконально знать и уметь исполнять порученное служебное дело, знать устройство корабля, приемы борьбы с повреждениями, не осознавшие важность высокой исполнительности и организованности во имя достижения победы над врагом, сохранения своей жизни и жизни товарищей что было характерно для моряков военного времени. Между тем новые корабли, начиненные сложной техникой требовали от людей высокой профессиональной выучки, дисциплинированности, моральной твердости в их освоении. Следует отметить, что кадровые моряки военной поры в послевоенные годы расслабились. И это — естественно. Они считали, что приобретенного боевого опыта им достаточно на последующую службу, сила приказа так же действенна как и в военное время, поэтому не стоит утруждать себя заботой о совершенствовании боевой подготовки и воспитательной работы. Дисциплина на кораблях начала хромать. Для примеpа сошлюсь на рассказ знакомого мне офицера, который в те годы служил помощником командира «малыша» на Черном море.
Подводная лодка обеспечивала тренировки водолазов аварийно-спасательной службы, лежа на грунте. Командир лодки — командир с военных лет — человек довольно суровый, на время тренировок запретил команде пользоваться подводным гальюном, дабы исключить необходимость продувать баллон гальюна и тем самым не портить водолазам настроение во время их нелегких занятий.
Жизнь на корабле, кроме указанного запрета, шла своим чередом и замыкалась непосредственно на помощника командира, поскольку на этих лодках нет штатных должностей ни старшего помощника, ни заместителя по политчасти.
Часа за два до установленного времени обеда к помощнику подошел кок и доложил, что обед может задержаться, так как картошка еще не чищена, по очереди чистить должен матрос Терещенко, но тот выполнить работу отказывается.
Офицер вызвал Терещенко:
— Товарищ Терещенко, почему не чистите картофель?
— Товарищ старший лейтенант, мне треба в гальюн, пока не пос… у, чистить не пийду.
— Как это – «не пийду»? Вы же знаете, гальюн закрыт по приказанию командира. Приказ старшего отменить я не могу, так что сейчас же отправляйтесь работать. И потом… в разговоре прошу выбирать выражения.
— Пока не пос….y не пийду, — заупрямился матрос.
Неслыханное ЧП — вопиющая неисполнительность и вместо того, чтобы как-то разрядить бытовую сложность, помощник решил доложить о ЧП командиру.
— Ничего себе! — удивился тот, — матрос на подводной лодке не выполняет приказаний помощника командира. Сейчас же передать водолазам сигнал о прекращении спусков. Всплываем!
Продули балласт. Всплыли. Вызвали на ходовой мостик Терещенко.
— Матрос Терещенко, приказываю вычистить картофель! Но Терещенко уже закусил удила и на приказания реагировал одним и тем же: «Пока не ….»
-Та-а-а-ак! Открытое неповиновение, — зловеще констатирует ситуацию командир.
— Терещенко, к флагу! Боцман, вынести мешок! Помощник, пистолет мне!
Все названные всё исполнили.
— Боцман, накинуть на голову матроса мешок.
Боцман натягивает на Терещенко пустой мешок из-под крупы.
— Последний раз спрашиваю, пойдете чистить картофель?
— Пока не по…у, не пийду,- бубнит в мешке Терещенко.
Командир взводит курок, подносит пистолет к тому месту мешка, где должно быть левое ухо матроса, и … стреляет. Терещенко падает на рыбины мостика и дурным голосом вопит:
- Пийду, пийду, пийду!
— Вот так нужно добиваться исполнения подчиненными ваших приказаний, — назидательно произнес командир, обратившись к помощнику и боцману.
Постепенно в командование кораблями и соединениями начали вступать новые люди. Многие из них добились положительных результатов. Таких я уже пытался показать на примере кронштадтской лодки «С-154». Но наряду с добросовестными, умными, обеспокоенными офицерами, видимо, выдвинулись и такие, кто в мирных условиях добросовестную службу заменил демонстрацией начальству кипучей деятельности. Крикливые и активные на публике они больше всего заботились о собственном спокойствии и благополучии, были весьма искусны прикрыть себя на всякий случай дотошной инструкцией, предостерегающим приказом, отшлифованным отчетом. Появилась тенденция к росту в цене бумаги, внешнего порядка, учетно-отчетного блеска. Умение воевать стало отходить в тень.
Опасность этой тенденции передовые офицеры, конечно же понимали. Одним из таких, я считаю, был Командующий Подводными силами ЧФ капитан I ранга Н.И. Смирнов. Когда волнения в Венгрии улеглись, был организован рейдовый сбор лодок в бухте Судак. Мне нередко приходилось нести службу в качестве помощника оперативного дежурного при походном штабе Командующего и присутствовать на разборах выполнения учебно-боевых задач кораблями. На разборах Командующий настойчиво требовал искоренения негативных явлений, о которых упоминалось выше. Он упрекал командиров в пренебрежении скрытностью действий лодок, в неграмотном использовании гидрологических условий плавания, в упрощении тактических приемов боевого использования оружия и тому подобных недостатках.
Н.И. Смирнов был одним из зачинателей разработки и внедрения новых приемов использования подводных лодок в составе подвижных завес и тактических групп.
На упомянутых сборах одна из моих штурманских вахт выпала на учения по отработке совместного плавания в составе группы. Сначала в порядке тренировки маневрирование проводили в надводном положении. Руководил учением сам Командующий. Никому не хотелось сплоховать, и меньше всех мне, только что заслужившему доверие на самостоятельное несение вахты в такое ответственное время. Насилу справляясь с расчетами по маневрированию, я на несколько часов прикипел к штурманскому столу. Рабочее место штурмана на подводных лодках 613 проекта находится почти под самым рубочным люком. В тихую пoгоду механики предпочитают подавать воздух к работающим дизелям через люк. Время было зимнее, и холодный мощный воздушный поток обдувал меня, как степную былинку пypгa, и спрятаться некуда. Продрог до костей, а просить старшего штурмана о досрочной смене с вахты самолюбие не позволяло. Так и просидел за планшетом, пока штурман сам не пришел менять меня. Сдав вахту встал, и тут же упал – отказали окоченевшие ноги. Как говорится, заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет.
На полугодовой стажировке мы получили солидную практику подводной службы. Однако, правды ради, следует отметить, что даже в нашем романтическом возрасте и в то подъемовое время не все трудились до упаду, не все были дураками. Один из таких «недураков» жил с нами в одном кубрике в казарме береговой базы (одновременно с нами стажировались курсанты из Ленинграда, он был оттуда). «Недурак» воспользовался организационными неурядицами при распределении на корабли и никуда не оформился — затерялся в многочисленной компании стажеров. В кубрике стояли двухъярусные койки, в любое время можно было видеть «недурака» на верхней койке занятым одним и тем же делом — вырезанием из резинового каблука гербовой печати. Он в силу своего нелегального положения даже столовую не посещал. Приятели приносили ему сгущенное молоко, банку с молоком он подвешивал к электропроводке на потолке над своей подушкой, от банки протягивал нитку и когда возникала потребность в еде, тянул за нитку, банка наклонялась, и струйка сгущенки, из загодя проделанного отверстия в банке, текла прямо в рот ему. Поработав какое-то время, умелец написал сам себе характеристики за стажировку, заготовил положенные листы зачетов, на сфабрикованные документы шлепнул оттиски собственной печатью, собрал свой саквояж и укатил куда-то. Больше мы его не видели. Кем он стал в последствии — не знаю, проходя службу на всех флотах Союза, я нигде его не встречал.
Мне же сгущенка в рот не текла, едва вернулся из командировки командир рулевой группы, я был назначен на новую должность, на сей раз корабельным фельдшером, то бишь начальником медицинской службы, вместо лейтенанта Нечипуренко, которым уехал продолжать свое образование. Новой «должности» я не испугался, поскольку раньше уже имел некоторую лечебную практику.
Раз уж зашел разговор о медицине, придется остановиться на этой самой лечебной практике. Дело в том, что перед стажировкой в очередном отпуске в родной деревне я вылечил от тяжелого недуга колхозного бригадира Александра Александровича Лебедева. Должен похвастаться, больной предпочел меня аж двум дипломированным специалистам широкого профиля. У него зверски болел коренной зуб, и страдалец обратился сначала к своему деревенскому доктору Майе Константиновне. Та по объективным показаниям сделала заключение, что зуб необходимо удалить, однако рвать не стала. Тогда бедняга побежал за 4 километра в Парфеново да напрасно: тамошний фельдшер тоже наотрез отказал в помощи.
После этих мытарств по сельским медпунктам он и встретился мне на улице. Больной тихо выл и клял последними словами медицину. Мне стало жаль мужика, и я предложил ему свою помощь. В тот момент мне показалось, что в теоретическом плане я достаточно подготовлен, так как незадолго перед тем читал рассказы Марка Твена, в одном из которых, писатель дал весьма толковые рекомендации по удалению больных зубов. Зуб, по Твену, следует бечевкой привязать к дверной ручке, затем с противоположной стороны резко дернуть дверь на себя, и пациент не успеет ойкнуть, как операция благополучно завершится; а еще лучше, советует он, бечевку крепко держать в левой руке, в правую взять головешку и горящим концом ткнуть в лицо больному, тот невольно отпрянет назад, и зуб выскочит из челюсти и останется болтаться на бечевке.
Я решил действовать по первому варианту, и мы вошли в избу. Ссучив несколько суровых ниток в надежный шкертик, я протянул шкерт в сквозное дупло в гнилом зубе бригадира и привязал к дверной ручке.
Моя бабушка лежала на печке и внимательно следила за нами.
— Убьешь мужика, — сделала она вывод из своих наблюдений.
— Не бойся, тетя Марья, — я живучий, — успокоил бабушку и меня Александр Александрович.
Закончив приготовления, я зашел в комнату. Больной с открытым ртом, привязанный к двери, остался на кухне.
— Готов? — спрашиваю.
— А — а-а.
Я понял, что можно приступить к главному и дернул дверь. Дверь распахнулась, и я увидел падающею, аки сноп, бригадира. Упав, он уже не шевелился, лицо было бледное, глаза закрыты. Рот оставался разинутым. Я заглянул туда и понял, что вырвана лишь половина зуба — другая половина торчала на месте. Решил операцию довести до конца, пока человек в обмороке, зачем ему терпеть ужасную боль дважды. К счастью, тут на глаза попались клещи под кухонным столиком. Захватив клещами пенек зуба, я вырвал оставшийся корень, но при этом, очевидно, захватил десну. Обильно пошла кровь. Чтобы обморочный не захлебнулся кровью, повернул ему голову на бок и бросился в медпункт, благо последний располагался рядом. Ворвался, молча (произносить слова не было времени) разыскал среди многочисленных склянок бутылку с йодом — клещи были ржавые — и побежал обратно. Александр Александрович лежал в прежней позе. Струйка крови стекала из уголка рта. Сначала я пытался прижечь ранку и приложил тампон с йодом к поврежденной десне, но кровь не останавливалась. Тогда опрокинул бутылку с лекарством прямо в рот. Больной забулькал горлом, принял сидячее положение и подал голос. Я подал ему кошачью плошку для сплевывания, попросил бабушку, чтобы присмотрела за ним, и ушел по своим делам. Когда вернулся домой, бригадира уже не было. Явился к вечеру — принес гонорар за лечение — четвертинку водки.
Согласитесь, с такой подготовкой быть начмедом подводной лодки… можно и новое назначение принял без ропота.
Вскоре подвернулся случай утвердиться в своих врачебных способностях. Как-то с Базуткиным надумали посетить танцплощадку в Килен-балке — к тому времени у меня начал появляться интерес к танцам. С нами пошли еще трое старшин лодочных. Обычно флотские эту танцплощадку не посещали. Там господствовала молодежь судоремонтных предприятий. В то время отношения между холостыми частями мужского населения города и флота были натянутые. О причинах взаимного недружелюбия догадаться не трудно — совокупное число гражданских и военных холостяков значительно превосходило число незамужних прелестниц. Какая сила потянула нас в Килен-балку — не помню, но очевидно, она была достаточно велика, коли мы пренебрегли реальной опасностью помять себе там бока.
Когда мы пришли, танцы уже были в разгаре. Площадка, огражденная металлической решеткой более чем трехметровой высоты, еле вмещала танцующих. Купили билеты. Едва миновал контроль на входе, как получил удар по спине массивной ременной пряжкой, затем тумак кулаком по затылку, потом еще и еще — со всех сторон. Ринулся назад к замешкавшимся у входа своим, но путь к отступлению был перекрыт враждебным заслоном. Тогда кошкой метнулся на ограду и каким-то чудом вмиг, перелетел на безопасную ее сторону. Да вот приземлился неудачно — на камни, до кости распорол голень. Подбежавшие товарищи помогли скрыться во тьму южной ночи. Потом долго лечил ногу мазью Вишневского и… вылечил.
Я сам — единственный больной, которого я вылечил за время исполнения обязанностей начальника медицинской службы подводной лодки «C-68». В экипаже изредка появлялись и другие хворые, но в отличие от колхозного бригадира, моему врачебному искусству они не доверялись. Их я водил в гарнизонную поликлинику.
Одним из сопровождаемых мною был матрос Н. У матроса не cpa6атывал ночной будильничек. Спящие рядом с Н. до поры до времени терпели неприятные запахи и тоже не жаловалась. Но потом заметили, что больной поутру на физзарядку выбегает совершенно сухой, тогда как на его матрасе остается лужа. Заметив, возмутились. Симуляция получила огласку. Командир для окончательного разоблачения хитреца приказал отвести его на медэкспертизу. Подозрения подтвердились.
Этот случай симуляции — единственный известный мне за долголетнюю службу на подводных лодках. Ради этой констатации я и затеял разговор о моей временной «должности» на стажировке.